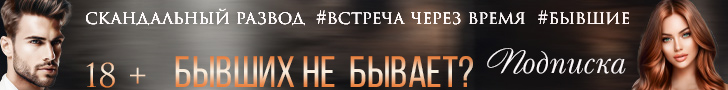По ту сторону тумана
Когтистые лапки
У страха маленькие колючие лапки. Маленькие колючие паучьи лапки. Маленькие колючие железные паучьи лапки. Они перебирают по коже. Или под кожей.
Хотя, порою, мне кажется, они ползут изнутри, прямо вдоль по яремной вене, почти всегда — слева. Тык-тык-тык — я слышу, как тысячи острых невидимых иголочек входят в эндотелий, прокалывая его насквозь, с тонким скрипом пробивают сосудистую стенку почти до конца, а затем выходят обратно.
Тык-тык-тык... Руки сами собой тянутся растереть шею, но вместо этого одергивают воротник пальто и поправляют полосатый шарф.
Я иду и смотрю под ноги. И считаю шаги, словно Суад". Один, два, три, шесть...
Шшшшессссть... Выдох осенними листьями шелестит сквозь стиснутые зубы, залепляет рот и нос мокрым желтым кленовым листом, скрипит на зубах землей и песком.
Ты пахнешь осенью в парке. Как хорошо, что пришел декабрь, и хоть лед промерз в меня по самые запястья, этот запах не преследует меня больше.
Снег пахнет солью. Как твой гнев. Только снег белый, а твой гнев красный.
Гнев и ненависть, вообще, похожи на крупную соль.
Твой гнев солен до обжигающей горечи, а его грани остры, но не слишком – достаточно, что бы причинить боль, недостаточно, что бы отсечь навсегда.
Иногда гнев стихает и становится белым мелким крошевом, превращаясь в безразличие.
Не люблю безразличие. Оно слишком пресное и через него прорастают сомнения и тревога.
Сомнения похожи на старую черную жвачку из под школьного стула, к которой можно приклеиться, но потом никак нельзя отклеиться до конца. Тревога и того хуже — она растёт тонкими маленькими змеиными жгутами, заполняя всё пространство вокруг, липнет к коже, въедается в неё. Чувствуешь, как тонкие черные нити ползут сначала по коже, а потом сквозь неё, и шипят, словно сломанный телевизор...
Шшшшшш... Шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать.
Обида пахнет резко – кислым. Кислота разъедает мою кожу. Ты тоже иногда пахнешь кислым, не знаю, что уж там у тебя с биохимией, но факты — упрямая вещь.
Без кожи слышнее, как иголки на паучьих лапках страха втыкаются изнутри в вены, как шипит тревожность, прорастая глубже в мышцы и затем оплетая позвоночник, парализуя ужасом.
Ужас застывает на позвоночнике черными блестящими кристаллами. Иногда кристаллы поражают другие суставы, и я чувствую, как он похрустывает в них при движении.
Непонимание стягивает меня в морской узел где-то, чуть ниже солнечного сплетения. Это, пожалуй, на столько банально, что даже странно.
Девятнадцать, двадцать четыре, двадцать семь...
Любовь и боль похожи. И та и та льëтся в кости раскаленным свинцом, делая существование в собственном теле жгуче-невыносимым. Невыносимым на столько, что хочется выскрести это ощущение из себя – прямо ногтями через кожу. Делает невыносимым, но таким живым.
Страсть похожа на раскаленный воздух. Твоё прикосновение — на мир, замерший на секунду. Миг прощания — на мир, перевернувшийся с ног на голову, словно песочные часы.
Невыносимым, горьким, соленым, жгучим, но таким живым ты делаешь моё существование.
Тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь...
Не за этим ли я ищу очередной встречи — почувствовать себя живым? Когда на миг останавливаются паучьи лапки. Когда холод размыкает браслеты наручников на моих запястьях. Когда тонкие жгуты, прорастающие всюду и сквозь, съеживаются, опаленные горячей красной волной...
Не от того ли мысль прекратить это делает меня невыносимо больным, а мир вокруг – тусклым и серым?
Миг тишины и покоя. А затем твоя рука вновь переворачивает эти песочные часы...
Один, два, три, четыре, пять, шшшшессссть.
– Филипп, тебя Охновский ищет.
Вздрагиваю. Тысячи мелких острых граней на секунду впиваются в район солнечного сплетения, затем тугой морской узел внутри начинает медленно затягиваться.
Почти ощутимое тепло чужого тела за спиной заставляет дернутся в сторону – в попытке увеличить дистанцию.
Инга всегда подошла не слышно. Или это я не услышал железный цоколь её каблуков, занятый собственными мыслями? Она стоит слишком близко. Слишком близко для меня.
— Зачем? — отвечаю чуть слышно.
— Не знаю. Но он зол.
— Он почти всегда зол, — отвечаю я одними губами, чувствуя, как они немеют.
В ответ мне — стук железных набоек тонких каблуков о бетонный пол нашего корпуса.
Инга уходит. Инга не слышит. Мне отвечают лишь её отвратительно-желтые туфли.
Цок-цок-цок. Если смотреть на них, они капают ядовито-желтым на сетчатку, если слушать — впиваются звуком под лобную кость.
Передергиваю плечами, возвращая себя к реальности. Улыбаюсь, разворачиваю ссутулившиеся, было, плечи, разворачиваюсь и иду в противоположную от удаляющегося цокания сторону.
Где-то, за грудиной, разливается горячим кофейным сиропом странное предвкушение.
"Ты больной ублюдок" — шуршит старой полиэтиленовой плёнкой какая-то часть сознания. Улыбаюсь, но затем стягиваю улыбку, никак не желающую сходить с лица, словно отлепляю с кожи намертво приклееный пластырь.
Не стоит его дразнить раньше времени. Не стоит.Пальцы нервно дергают ворот рубашки, внезапно сдавившей горло. Не стоит.
Стучусь трижды и аккуратно открываю дверь.
— Пришёл? Ну заходи, — Учитель, явно в хорошем настроении, разворачивает и толкает в мою сторону кипу бумаг, — сегодня пришло из Министерства. Финансирование твоего проекта одобрили. Молодец. Молодец, горжусь!
— С-спасибо, — в горле словно ком из сухой бумаги застрял, и мне пришлось сглотнуть его прежде, чем я смог что-то ответить.
— Садись, нужно подписать бумаги, — Охновский делает жест рукой, указывая на стул напротив. Лицо его лучится самодовольством.
Сажусь, в спину словно лом вместо позвоночника воткнули. Холодный, железный лом. Очень холодный, словно на морозе в минус сорок. Чувствую, как мышцы примораживаются к нему, но через силу склоняюсь над бумагами. В реальность меня возвращает скрип кресла напротив.
Отредактировано: 18.12.2022