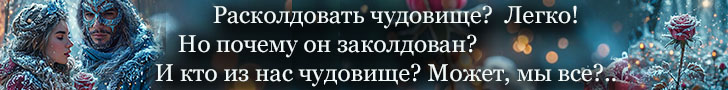Подземный город
Подземный город
Совсем недавно произошло сильное землетрясение магнитудой семь баллов; я спал, как убитый, когда стены моей хлипкой деревянной избушки заходили ходуном: застонали пол и стены; черепицы крыши издали невнятный лязг, будто сомкнулись чьи-то гигантские челюсти, громко стукнув зубами. С полок попадали книги и кухонная утварь, типа кастрюль, чашек, горшков и половников, сотворив необычайный грохот. Я вскочил с постели, как ошпаренный, ничего не соображая; меня тут же обуяла паника: разум помутился, а тело судорожно пыталось отыскать хоть какое-то укрытие. Я даже не помню, как забрался под кровать, будучи в одной хлопковой рубахе. Ничего из своего убежища я не видел и не слышал, окруженный вязкой тьмой: стояла глубокая ночь, возможно, около двенадцати часов. Угол одеяла, безвольно свесившийся с края кровати, давал мне мнимую защиту от внешнего мира; между тем, я старался уловить хоть какие-нибудь звуки с улицы, но кроме холодной тишины, звенящей в моей голове, ничего не слышал. Мой пес, Аджи – некогда блохастая бродячая шавка, подобранная из жалости в селе Дайыр, что находится в Зайсанском районе, в Казахстане (там я родился и вырос), – отчего-то смолчал. Это показалось несколько странным, поэтому я решил пойти и проверить, все ли с ним в порядке. Однако мне было страшно покидать свое укромное место, показавшееся непривычно уютным и безопасным. Все же, набравшись смелости, я вылез из-под кровати и, накинув грубо выделанную шубу из шкуры медведя, которого когда-то застрелил из охотничьего ружья, осторожно выполз за дверь. Я увидел его, более черного, чем прежде, неподвижно стоящего на заснеженном берегу Рахмановского озера. Недовольно нахмурившись, я поспешно рассудил, что Аджи заметил какого-то дикого зверя, пришедшего из окружающих нас горных лесов. Но рогатый месяц, пробивающийся сквозь антрацитовые облака, услужливо подсветил корку льда на поверхности воды – белоснежные пространства были объяты невозмутимой безмятежностью. Ветер растрепал густую длинную шерсть Аджи, а затем достиг меня, исколов щеки и нос и исцарапав оголенную грудь; я поспешно задернул полы шубы и поправил воротник, закрыв плотно шею – все-таки стояли суровые январские морозы. Неторопливым шагом я приблизился к Аджи, и когда оказался рядом с ним, тот и ухом не повел, что-то сосредоточенно выглядывая впереди. Я проследил глазами в ту сторону, куда была повернута его массивная голова, но ничего не смог разглядеть в плотном снежном тумане, мерцающем в недосягаемой дали. Будто снежная буря надвигалась на нас, но такую мне прежде видеть не доводилось; и все же она оставалась в пределах небольшой зоны, отчего обманчиво казалась застывшей. Я слегка потрепал Аджи по загривку, и только тогда он обратил на меня взор пронзительных карих глаз. Я приказал ему возвратиться домой, и он послушно, как и всегда, побрел за мной, ступая шаг в шаг по моим следам, оставшимся на рыхлом и сияющем снегу. Аджи улегся спать в свою теплую будку, а я, на скорую руку убрав беспорядок, учиненный стихийным бедствием, отправился обратно в остывшую постель. Вскоре мое сознание погрузилось в забытье.
Ранним утром я позавтракал топленым молоком, что привозят мне каждую пятницу, и горячими бутербродами с колбасой и сыром. Затем выскочил на улицу, чтобы покормить Аджи кусками сырой свинины, заодно подбросил ему крупный мосол. Пока Аджи точил свои зубы о бедренную кость, я направил свой взор туда, где вчера завесой стелился снежный дым. По всей видимости, за ночь он успел развеяться, словно чарующий природный мираж, но это было не самым удивительным наблюдением. На том месте, где совсем недавно сгущалось пепельное марево, возвышалось диковинное, серебрящееся в блеклых лучах солнца, изящное строение с многочисленными острыми башнями, напоминающими клыки древнего хищника. Оно и само, на первый взгляд, казалось очень ветхим, пережившим многие столетия, а то и тысячелетия, но при этом величественно-зловещим, окутанное пеленой темных запретных тайн. Главная башня была тонкой и настолько высокой, что своей вершиной пронзала сизое небо насквозь. К сожалению, фантастическое сооружение находилось за семь верст, поэтому не было возможности его тщательно разглядеть. Я пораженно вздохнул, и мой рот высвободил облачко пара; еще несколько минут я не смел отвести взгляд от этой восхитительной парадоксальной конструкции, невероятным образом выросшей из-под земли за считанные часы.
Вернувшись в дом, я немедленно включил радио, надеясь заполучить вести о восьмом чуде света, внезапно явившем себя человечеству. И то верно: о нем слухи распространялись быстрее, чем я мог себе представить. Языки говорили, что это какой-то архаичный оккультный город, называющий себя Атахорат; он был построен еще до рождения Иисуса Христа, и долгое время пребывал в недрах Земли. Но неведомая сила заставила Атахорат пробудиться, и он выбрался на поверхность, расколов на части трехглавую священную гору Белуху. В былую пору в стенах цитадели обитал самобытный примитивный род – многочисленное человекоподобное племя, – нарекающий себя Харонг; он молился и преподносил жертвенные дары самым первым безликим богам и другим различным мистическим силам. Но однажды Центральные Врата Атахората штурмовали могучие белые великаны Улхуты; они истребили большую часть племени, а оставшихся в живых заключили в плен и обратили в своих рабов. Прошло достаточно много лет, и ряды племени Харонг сильно поредели, поэтому Улхуты придумали способ, как поднять город из-под сводов мрачных каменных пещер, надеясь восполнить существенные потери. Ходили сплетни, что среди людей бродят потомки рода Харонг – тех немногих, кто смог сбежать от разрушительной, всепоглощающей мощи белых титанов; с помощью ритуальной песни племя обращалось к их стоялой забытой крови, чтобы те возвращались домой.
По утрам, в течение целого месяца, я завороженно глядел на Атахорат, внушавший мне томительный трепет и гнетущую тревогу. Город имел призрачные очертания: стеклянный и почти прозрачный, покрытый кристальным льдом – словно зеркало, он отражал небесный свод и рваные заснеженные хребты. Рассказывали, его стены возведены из иссиня-черного камня, голубого металла и костей, и украшены антропоморфными орнаментами и символами. Каждую ночь внутри старого города раздается колокольный стройный звон, похожий на церковный; я всегда ненавидел церковный звон, поскольку мне казалось, что он устремляется к моему скользкому существу, крепко дремлющему глубоко в чреве. И всякий раз, когда слышу звон Атахората, то физически ощущаю, как во мне «что-то» настырно шевелится; порой это «что-то» причиняет мне боль, будто пытаясь покинуть мое нутро, растерзав в лоскуты плоть. Вскоре до меня снизошло прозрение – возможно, моя кровь связана с племенем Харонг, и по этой причине являюсь его детищем, рожденным по чьей-то глупой ошибке. Помимо всего прочего, рабы непрерывно приводят в движение изношенные, стонущие, как раненный олень, механизмы и распевают, не прекращая, песню на умершем изломанном языке. Я сначала не понимал его, он казался мне бредовым набором букв, в основном состоящий из шипящих согласных и буквы, напоминающей «р», протяжной и гортанной, точно утробный рык чудовища. Но постепенно ко мне «вернулась память» об этом леденящем душу языке, и я отчетливо стал различать слова гипнотической песни, льющейся тягостным полушепотом: