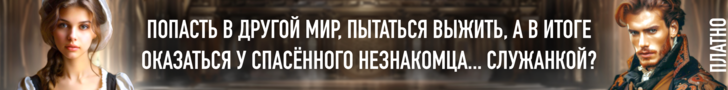Пока кукует над Рессой кукушка...
Часть четвёртая. Нашествие. Глава вторая. Оккупация.
Часть четвёртая.
Нашествие.
Глава вторая.
Оккупация.
Постоянного присутствия фашистов первое время в Красном не наблюдалось. Деревенька маленькая, стоит на отшибе и для военных действий не представляет интереса. Вражеские солдаты расположились в Гороховке, а в Красное наведывались лишь наездами.
Ольга с Саней теперь корили себя за промедление с уходом из деревни, но уже ничего поделать не могли. Молили бога, чтобы в Красное подольше не пришли враги. Из соседних деревень люди приносили вести одна другой страшнее. Где-то надругались над девками-малолетками. Где-то за неповиновение расстреляли старика и женщину, не дававшую на убой единственную кормилицу семьи корову.
Ольга страшилась за детей. Сын уже подросток -- четырнадцать лет. Самый возраст строптивый. Ещё не созрел до мужика, а мнение уже взрослое. Опасалась, как бы где не заупрямился перед врагами. У тех разговор короткий. Стрельнут -- и нет парнишки. Долго вдвоём с Саней наставляли его, как себя вести с пришлыми. Ваня парень умный, с доводами матери и тётки соглашался, но дома сидеть и никуда не ходить категорически не хотел. С дочерью было проще: она хоть и подрастала, и за последние полгода вытянулась в тонкую хворостинку ростом почти с мать, но в свои десять лет была ещё послушным ребёнком. И женщин одно страшило, как бы не попалась на глаза пришлым поганцам.
Несколько дней спустя после неудачного исхода из деревни Ваня встретился с дружками по школе. Было решено сходить на Селибы. Были там потайные места, где подростки вдали от взрослых глаз собирались на свои посиделки. Кто-то по принесённой из города привычке втихаря покуривал, кто-то играл в карты. Словом, обычные подростковые дела, в которые совсем не хотелось вовлекать взрослых.
Ольга, зная, куда отправился сын, попросила наломать берёзовых веников для двора, просто, чтобы занять парня делом.
На Селибах было пустынно и тихо. Иван Петрак предложил сходить к дубу. Говорят старики, что если у дуба попросить помощи со всей открытой душой, и, главное, не только для себя, а и для пользы общества, то просьба сбывается. Только надо честно и открыто просить...
-- Пойдём, но прежде веников наломаю, а то потом забуду и мамка заругается, -- согласился Ваня.
Впятером, вместе с Лёнькой Левым, да Семёном Шаликиным и его братом Шуркой, быстро справились с заданием. Листва уже облетела с веток и теперь приятно шуршала под ногами. Уже было собрались идти к дубу, как Семён вдруг поднял руку, предостерегая и в то же время привлекая внимание. В зарослях березняка что-то виднелось, вроде как люди.
Ребята были не робкого десятка, но и попадать в лапы фашистов не собирались. Семён, как старший, оставил приятелей на месте, а сам двинулся дальше. Вскоре послышался его тихий свист.
В березняке лежали наши солдаты. Убитые. Видно, выходили из окружения. Расположились на ночь вокруг костра. Тут их и постреляли...
-- Негоже им непогребёнными быть, -- стиснув зубы, произнёс Семён. -- Надо бы их похоронить по-людски...
Взяв лопаты и не говоря о находке взрослым, ребята вернулись на Селибы. Выкопали, как сумели общую могилу и сложили в неё убитых. В повседневной деревенской жизни дети постоянно сталкивались с забоем животных и были приучены к пониманию, что всё живое имеет свой конец. Но вид убитых в спину и затылок молодых бойцов, лишь на пяток лет постарше хоронивших их, вызвал у ребят бурю эмоций, ненависти к захватившим землю фашистам.
-- Как же так, убили их исподтишка, ночью, подло?.. Надо по всем правилам схоронить, с салютом, -- предложил Петрак. Он проверил валявшиеся неподалёку винтовки. Вставил патроны. Похоронив убитых, ребята встали в пионерском почётном карауле, потом подняли винтовки и произвели троекратный залп...
Не успели ещё и уйти с Селиб, как по холму со стороны Лазина стала бить артиллерия. Вначале разрозненными выстрелами, а потом прицельно залпами. Парням просто чудом удалось убежать в сторону леса. И лишь когда стихла канонада, окольным путём пробраться в деревню. А от Гороховки в это время к Селибам отправился отряд мотоциклистов.
Ваня честно признался матери и тётке, что это он с приятелями стал причиной переполоха. Мать прижала его голову к своей груди.
-- Ванюшка, не делай глупостей. Ведь вас могли убить или схватить фашисты. А это ещё страшнее. Вон, тётка Наталья сказывала, за Рыляками и в Юхнове ироды построили загородки, свезли пленных наших солдат, содержат как скот, есть не дают. А в Пречистом, говорили беженцы, людей повесили... Родной мой, это же не люди, для них ничего святого нет...
Вскоре в правоте её слов убедилась вся деревня.
От Гороховки в сторону Красного на дороге показалась колонна машин и мотоциклистов. Прибывшие через переводчика объявили жителям, что для нужд немецкой армии изымают все дома, население должно выселиться в течение часа.
Ольга с Саней только успели схватить кое-что из одежды да чугунки с едой, как рослый немец вытурил их из дома, подгоняя словами "шнеле, шнеле". Потом уже узнали, что это денщик какого-то офицера, который будет жить в их доме. Под его руководством трое солдат с трудом выволокли на улицу огромный фикус в кадке.
Фикус этот был гордостью Ольги и доставлял много проблем Лиле, которую перед очередными праздниками в мирное время мать и тётка ставили на стул поближе к фикусу и заставляли протирать широкие лопаты темно-зелёных кожистых листьев от пыли тряпочкой, смоченной в постном масле. Раньше девочка в душе проклинала это огромное раскоряченное растение. А теперь, увидев его замерзающим на осеннем ветру, пожалела о своих словах, так страшно сбывшихся...
Очень скоро сельчане почувствовали, что захватчики не считают их равными себе людьми. Для фашистов местное население было чем-то вроде домашнего скота, в крайнем случае, они видели крестьян лишь в качестве рабов.
В деревенском регламентированном вековыми обычаями обществе всё было понятно и устойчиво. С детства сельчане знали и придерживались определённых правил поведения в отношении всех слоёв населения как внутри общины, так и вне её.. Были ещё в старину введены в обиход и неуклонно с тех пор соблюдались различные запреты, касающиеся взаимоотношений между людьми. И вдруг всё это их вековое миропонимание стало жёстко и презрительно попираться чужеземцами.
Скромные сельчанки были неожиданно потрясены пониманием того, что захватчикам, оказывается, просто наплевать на чувства подневольных людей. Началось с того, что фашисты не пользовались привычными для сельчан отхожими местами. Для себя они выкопали небольшие углубления на овощнике и, положив над ними дощечки для удобства, стали справлять свою нужду, выставив голый зад на всеобщее обозрение.
Женщины, привыкшие к отправлению физиологических надобностей в укромных местах, тихо плевались на нечестивцев и торопились укрыться от гогочущих солдат. Они пока ещё никак не могли осознать, что для этого пьяного от вседозволенности воинственного сброда они числятся не более значимыми, чем овца или курица. А чего их стесняться?
Ольга с Саней и с детьми переселились в старую баню. Немец-денщик обследовал её и махнул рукой, разрешая там остаться. Чуть позже солдаты зарезали корову, переловили кур и овец. В избе раскочегарили печь, навалив в топку дров, при этом чуть не спалили избу. У Ольги сложилось впечатление, что эти нелюди никогда не видели русской печи и даже приблизительно не знали, как с ней обращаться.
Вскоре денщик пришёл в баню, схватил Саню за руку и поволок к дому. Ольга кинулась защищать подругу, но Саня остановила её:
-- Ничего со мной не случится. Иди, Олюшка, к детям. Я сама отобьюсь...
Впрочем, ничего постыдного с Саней не случилось. Денщик приволок её в избу, подтолкнул к печи, говоря что-то непонятное. Вскоре Саня и сама разобралась. От неё требовали сварить еду, показать, как это делать в этой огромной, занимающей треть помещения печи. Она привычно сдвинула вглубь раскалённые угли, установила горшки с водой, показала, что надо туда положить мясо и крупу. С тоской оглядела в мгновение ока захламлённое помещение, по которому слоился у потолка сизый дым...
По деревне покатились плачи. То тут, то там пьяная свора нечисти насиловала девок, избивала стариков, вступавшихся за родню, резала бездумно скот и птицу...
Денщик от обитателей бани других солдат отгонял. Не для себя берёг. Как и хозяин-офицер, считал ниже своего достоинства насиловать этих пожилых баб. Ему претили все русские рабыни с загрубевшими на солнце лицами и руками, покрытыми неистребимыми, как на обезвоженной высушенной земле, глубокими трещинами. В мерзких лохмотьях и обмотавших их головы платках. Но, они умели готовить, растапливать печь без дыма, убирать помещение. Господин офицер любил во всём порядок и удобства, а ради этого стоило и потерпеть присутствие варварок.
Откуда-то появилось в избе глубокое корыто. Денщик, которого все звали Ференц, приказал Ольге с Саней и Ване натаскать из реки воды, накипятить в печи и вылить в корыто. И пока Саня по приказу Ференца готовила еду, герр офицер, как его звал денщик, внезапно разоблачился и, не стесняясь, залез в корыто. Саня мылась в былые времена вместе с Андреем в бане, но то были семейные помывки. А тут, не стыдясь, при ней чужак голиком сидел в корыте и денщик намыливал его как мать малое дитя. Впрочем, тут же офицер что-то сказал своему денщику, тот исподлобья глянул на случайную свидетельницу и за шиворот выкинул из избы...
-- Тьфу, ты, прости господи, нечестивцы, нелюди, -- бормотала про себя Саня, вернувшись в баню. -- Не поверишь, Олюшка, греха на нечестивцах нет. Ни стыда, ни совести. Мы для них не люди, они нас за скотину держат. Этот-то боров Ференц своего герра офицера мыл как, к примеру, ты Лилю. Тьфу...
Обычно, с мужскими делами по двору справлялся Ваня при помощи матери и тётки. Лилю старались держать вдали от глаз немцев. А тут к поселившемуся в их избе офицеру приехали то ли знакомые, то ли сослуживцы на бричке, запряжённой двумя битюгами. Кучер, огромный детина, распряг коней и, заметив у бани девочку, крикнул "ком цу мир". Лиля и хотела бы спрятаться, но немец в несколько прыжков спустился к бане, схватил её за руку и поволок вверх. Там он сунул ей в руки поводья и толкнул к спуску к реке, мол, веди на водопой. И это двух битюгов по крутому склону...
Ваня, увидев, что сестру куда-то поволок незнакомый немец, кинулся было к Ференцу за помощью. Но потом понял, что сестру просто отправляют с лошадьми к реке, бросился к ней, мгновенно осознав, что тяжёлые лошади просто сомнут и затопчут худенькую и слабосильную девочку. Он-то в своё время водил колхозных лошадей на водопой, потому имел представление, как с ними обращаться. Спустился с лошадьми по оврагу, где было не так круто, напоил, потом вывел на берег.
Ференц, наблюдавший за этим с крыльца, пробасил " гуд, гуд, карашо", потом зашёл в избу. А Ваня ещё долго не мог восстановить дыхание после пробежки. Для него справиться с тяжеловозами было тоже нелегко. Но он даже страшился представить, что случилось бы с сестрой.
Между тем зима, в этот год ранняя, очень быстро вступила в свои права, завалив всю землю огромными сугробами. А вслед за снегом пришли и жестокие морозы. Все окрестности скрылись под метровым снежным покрывалом. Захватчики теперь сидели в избах у печей. Их обмундирование явно не было предназначено для такой суровой зимы.
Ференц быстро сообразил, как утеплиться, и использовал теперь старые валенки Николая и тулуп, висевший возле входа в скотный двор. Только там уже никакой живности не было.
Все дороги в миг стали непроходимыми. Расположившимся в Красном фашистам пришло указание согнать всех жителей деревни для расчистки дорог.
На работы отправили и Ольгу с Ваней. Ференц вначале хотел толкнуть в толпу и Лилю, но потом передумал, сунул ей в руки бадейку и свёрток вещей и отправил в баню стирать. Ольга с некоторым облегчением вздохнула. У дочери не было ни тулупа, ни крепких валенок. В такую стужу она могла бы обморозиться. Саня работала в избе у герра офицера.
Весь день старики, женщины и подростки с помощью широких лопат прокапывали скрытую под снегом дорогу до Гороховки, а потом и дальше до Блинова. Отправляли их работать и в сторону варшавского тракта. Частые метели быстро заметали расчищенный людьми зимник.
В колонну работавших на дороге людей добавлялись ежедневно и жители других деревень. И хотя немногочисленные охранники и покрикивали на работников, те шёпотом передавали известия из своих мест. В основном о том, что фашисты повсеместно лютуют, подозревают местных в связях с партизанами. В Пуповке по подозрению в помощи партизанам были убиты больше двух десятков колхозников, в Озере, совсем недалеко от этих мест, расстреляна группа парней. В Городце замучены насмерть двое престарелых жителей за укрывательство раненных бойцов. И так было повсеместно. Откуда бы ни пригоняли людей на расчистку дороги, везде были рассказы о насилии, повешенных и убитых гражданских.
Однажды в числе охраны появился моложавый мужчина в белом добротном полушубке, тёплых бурках и ушанке из волчьей шкуры. Говорили, что это новый переводчик, прибыл откуда-то из-под Смоленска. В отличие от немцев, которые, замёрзнув, грелись у разведённого у дороги костра и лишь периодически покрикивали на работавших людей, переводчик постоянно ходил вдоль дороги, подгонял тех, кто работал медленно, но и насмехался над теми, кто трудился на совесть. Его было не понять. Одних, работавших спустя рукава, объявлял пособниками партизан, других, вырвавшихся вперёд, издевательски хвалил за преклонение перед германской армией...
Чистивший обочину в паре с Ваней старик из Барсуков однажды, когда они остановились передохнуть, а переводчик неподалёку стал отчитывать кого-то из работников за нерадивость, с ненавистью прошептал:
-- Ишь, разоряется барчук, перед фашистами выслуживается...
-- Вы его знаете, дед Фёдор? -- удивился Ваня. Он и представить не мог, что кто-то по своей воле согласится работать на врагов.
-- Да кто ж его не знает? -- тихо бросил реплику подошедший к старику прикурить самокрутку хромой инвалид из Крутого. -- Их благородие раньше в Мосальской заготконторе обретались, партийного из себя строили, контра недобитая. Людей честных в тюрьме гноили, а эти предатели, как говно в проруби, никогда не утонут, везде выплывут. Их маменька при царском времени детишек учила, а сынка-то и не научила, что народ свой ценить надо, а родину любить...
-- Так мы ж для них что прежде рабы были, что теперича. -- Старик привычно закашлялся, вдохнув ядрёный дым самокрутки, потом продолжил: -- Только зря думает, что его над нами, как при царе, барином поставят. Барами хотят быть вон те, немчура немытая. На землю нашу, на природу рты поразявили... Думают, что превратят нас в бессловесное стадо и как телят на себя работать заставят...
-- Нет, не дождутся. Скоро наша армия вернётся, вот тогда и посмотрим, чья возьмёт... Всё, заболтался я... -- инвалид сплюнул себе под ноги и заковылял в сторону, заметив приближающегося переводчика.
-- Почему не работаете? Саботаж решили организовать? А это чей щенок? -- переводчик неприязненно уставился на насупившегося парня.
-- Ваше благородие, это внук мой, -- стянув треух с головы и кланяясь, забормотал старик. -- Передохнуть остановились, ваше благородие, а так мы завсегда, мы завсегда...
-- Ну-ну, не расслабляйтесь, -- презрительно посоветовав старику, переводчик вроде бы про себя, но так, чтобы было всем слышно, произнёс, -- как были холопами, так ими и остались. И ваша советская власть не вразумила. Всё перед сильными шапку ломаете, завоевателям кланяетесь, ну-ну, докланяетесь...
Переводчика было не понять. Он презирал всех. И тех, кто старался угодить фашистам, и тех, кто скрытно или даже открыто саботировал приказы захватчиков. А однажды, когда какой-то работник, решив прогнуться перед новой властью, стал докладывать о разговорах, услышанных среди чистильщиков дороги, переводчик внезапно схватил металлическую лопату и ударил ею доносчика, раскроив череп. Подскочившие солдаты выстрелами добили упавшего. Переводчик же объяснил, что убитый напал на него.
Дед Фёдор наставлял Ваню, чтобы тот держал язык за зубами и не высказывал своё мнение перед всякими незнакомыми проходимцами. Проще прикинуться покорным и малограмотным. К таким особого внимания не проявляли.
Но работа по расчистке дорог для Вани скоро кончилась. Валенки у него были старые. Левый в мыске совсем истрепался. И как не заделывали дыру в подошве, большой палец ноги обморозился. Парень стал хромать, потом боль стала нестерпимой. Десятский, наблюдавший за работой чистильщиков, увидев почерневший палец, переговорил с переводчиком, тот сообщил куда надо, и Ваню отправили домой. В Гороховке, куда Ольга с сыном пошла к фельдшеру, ей однозначно сказали, что надо не только палец отрезать, а скорее всего и ступню.
Саня бросилась в ноги Ференцу, прося его помочь. Тот скривился вначале. Не очень ему и хотелось влезать в эти дела. Но потом подумал немного и сказал "карашо".
Вскоре к бане пришёл носатый очкарик в старом тулупе поверх шинели и летней пилотке, натянутой на уши. Он внимательно осмотрел поражённую ногу, ощупал её. Потом стал показывать, что надо делать. Достал банку с мазью. Ногу помыли под его руководством, потом он наложил мазь на обмороженное место и приказал тканью перемотать ступню. Растопырив пальцы, показал, сколько дней надо так лечить.
И действительно, через несколько дней вся чёрная кожа с пальца стала сползать, показалась новая, розовая. Потом уже Саня узнала, что лечивший Ваню немец был ветеринаром, но, видно, грамотным, опытным специалистом, сумевшим вылечить обморожение без радикальных методов.
В Савинках немцев вначале не было. В деревню перебрались некоторые беженцы из Юхнова и деревень, расположенных на "варшавке". Переехала к родителям и Паничка с детьми. Скот свой она порезала загодя, привезла мясо в Савинки.
-- Папаш, надо бы закопать в схрон солонину, а то придёт эта нечисть, всё сожрут, а детям есть нечего будет, -- предложила отцу. Виктор и сам подумывал о том, что надо бы схоронить кое-что из съестного на будущее. Тайком от посторонних глаз он уже закопал две фляги с мёдом на крайний случай, в Десятинах за сгоревшей баней устроили схрон для мяса, предварительно его просолив.
Теперь в избе было не повернуться от народу. Одних только внуков было десятеро, и все мальцы, за которыми глаз да глаз нужен, да четверо женщин, каждая со своим характером. Но как-то уживались. Время было такое, не до разборок.
А потом в деревню прибыли немцы. Их командованием было решено устроить в Савинках санчасть, куда свозили раненных при боевых действиях солдат.
В добротной избе Марьиных родителей, где жила теперь только нянька Матрёна, поселился офицер, выгнав владелицу жилья в баню. В бывшем правлении колхоза разместились управа и комендатура. Рядом поселились пришлые полицаи. Говорили сведущие люди, что они с западной Украины.
В избах Виктора и Василия Сударьковых расположились немцы охраны санчасти. Сам Василий был на фронте, а жена его с детьми ещё летом перебралась к родне в другую деревню. А вот Виктору с его семьёй пришлось несладко. Полтора десятка человек, куда с ними пойдёшь в мороз? Тем более, что выкинули их из избы в чём были. Приютили их Васюточка с Артёмом в старой бане. Сами они перебрались к Артёмову брату в халупу, которой немцы побрезговали.
Баня была неплоха, но только для мытья, а вот обитать в ней было нелегко. Так что, переночевав в этой бане, Сударьковы перебрались к няньке Матрёне. Там было посподручнее жить. Впрочем, что значит, сподручнее? Разве что из-под пола не дуло, дверь закрывалась плотно. А уж о печке и не думали. Есть готовили где придётся.
На другой день после прихода немцев, всех жителей согнали к бывшему правлению колхоза. Комендант, поджарый офицер со щёточкой усов под курносым носом, что-то стал говорить, а переводчик из пришлых полицаев стал переводить. Требовалось выбрать старосту деревни. Оставшиеся в деревне старики и инвалиды стали прятать глаза, стараясь не глядеть в сторону новой власти.
Тут голос подала Гордеиха с другого конца деревни:
-- Чё думать, вон, Артёма Монахова назначить. Как раз подходит. Он мир повидал, знает, как с новой властью общаться... Его пусть ставят...
Сельчане зашумели, кто одобрительно, потому что лично их эта беда миновала, а кто и возмущённо: почему это Монахова выкрикнули, он теперь будет над деревенскими главным.
Артём стоял рядом с братом и деверем Виктором как оплёванный. За что его прилюдно выкрикнули в помощь врагам?
Уже в братовой халупе, разлив припрятанный самогон, вытерев своей натруженной, задубевшей до состояния наждачки рукой неожиданно потёкшие по лицу и бороде слёзы, вдруг спросил:
-- За что меня так? Разве я кому худого желал? Назвали предателем и пособником немчуры. Скажи, Виктор?
Деверь, уже хлебнувший сивухи и разомлевший от прихлынувшего к голове спиртного, вздохнул:
-- Что удивляешься? Люди тебе честь оказали. Показали, что доверяют, что надеются, что будешь интересы общества блюсти. А потом, честно скажу, не обижайся. Детей и внуков у вас с Васютой нет. Так что и позора для потомков в этом не будет. Сам знаешь, мёртвые сраму не имут. А ты сможешь и помочь людям в случае нужды. Помнишь, как в лес ходили с лопатами? Думаю, неспроста Гордеиха тебя выкрикнула, еёный сын, сказывали, в лес ушёл, ну, туда... соображаешь?
...И потекла в деревне страшная и опасная жизнь. Сударьковы частично перебрались на свою сторону деревни, поближе к избе. У других соседей в избёнке устроились.
Душку немцы приставили в своей избе печь топить, потому как два подворья сгорели из-за неумения пришлых оккупантов с печами обращаться. Тогда, правда, немцы и полицаи бегали по избам с криками: "партизанен, партизанен", но никого из чужаков в деревне не было.
А Артём Монахов коменданту растолковал, что солдаты сами избы подпалили: сначала печь дровами забили, а потом горящие поленья на пол вытащили, когда чад пошёл. Комендант дал распоряжение, чтобы печами занимались местные, но проверенные.
Солдаты в деревне часто менялись. Одних отправляли в сторону Москвы на фронт, другие из тыла прибывали им на смену. Были среди них разные люди. Особой жестокостью отличались кроме молодых немцев румыны и западные украинцы, из тех земель, что перед войной к Советскому Союзу присоединили. Эти, да ещё поляки, зверски лютовали.
Как-то, ещё до большого снега, когда Душку только ещё приставили к печке в своей избе, за ней увязался младший сын Славка. Он был последыш, а потому все его баловали. Мать до трёх лет всё его на руках таскала, нянчила.
В тот день Славка приплёлся за матерью к избе, был он ростом заметно меньше сверстников, худенький и плаксивый. И начал у матери что-то канючить. Та вначале тихо его погнала в сторону их теперешнего обиталища. Но мальчонка затопотал своими кривыми ножонками, требуя чего-то, понятного только им обоим.
И тут из избы выскочил молодой немец из только что прибывших, схватил парнишку и за шиворот подвесил на сук яблони. Испуганный малец сразу заверещал. До земли было метра два. При этом немец громко заржал от своей шутки и то и дело наставлял на мальчонку пистолет, нажимая на курок, и произнося "пах, пах". Душка в ужасе бросилась на помощь сыну, но немец и на неё наставил оружие и стал кричать что-то угрожающее.
Дед Виктор поспешил к офицеру, что располагался в избе, определённой под санчасть. Тот накинул на плечи шинель, пришёл к Викторовой избе и что-то такое сказал гогочущему солдату, что тот мгновенно снял мальчишку с дерева. В тот же день этот нелюдь вместе с другими отправился в сторону Москвы.
Вначале, когда немцы победным маршем двигались в сторону столицы, они лишь презрительно поглядывали на местное население, не обращая на него особого внимания. Но когда этот их победный марш, который они предполагали без задержек продолжить вплоть до Москвы, вдруг споткнулся вначале за Юхновом у моста через Угру, потом с великим трудом им давался каждый отбитый у защитников километр, немцы стали срывать злость на местных жителях. Тем более, что оказывалось, что немецкой агрессивной, вооружённой современной техникой военной махине противостояли совсем молодые ребята, подольские курсанты, а так же недавно призванные в армию солдаты, у которых почти не было тяжёлого вооружения. И это осознание, что всей своей махиной немецкие войска не могут сломить сопротивление, на их взгляд, слабосильного противника, только озлобляло захватчиков.
Ежедневно в санчасть, расположенную в Савинках, привозили раненых немцев. Напротив изб, где размещались выздоравливающие, через дорогу, стали хоронить умерших немцев. Над каждой могилой устанавливался крест из берёзовых стволов.
Чем меньше оставалось дней до нового года, тем больше появлялось берёзовых крестов. И тем злее и агрессивнее становились захватчики. Особенно злобствовал один из полицаев. Их почему-то на фронт не отправляли, держали в охране при санчасти. Один из них по имени Василь очень невзлюбил Виктора Константиновича Сударькова. Частенько бродил за ним следом, приглядывался, чем старик занят. Почему отправился в лес, что делал возле ульев, о чём говорил со старостой деревни. Словом, следил за каждым его шагом.
Бесило полицая то, что старик вполне сносно не только понимал немецкую речь, но и польскую. С чего бы это у невежественного крестьянина из глубинки такие познания? Василь ведь не мог предполагать, что этот старик уже однажды прошёл дорогами войны в первую мировую, побывал в немецком плену, и теперь казалось забытые слова чужого языка остро и мгновенно вспомнились, как и те мучения, которые выпали тогда на долю пленного.
Этот Василь питал патологическую ненависть к русским. Ненавидел всё: и как они для виду притворялись униженными и сломленными, как почти наигранно кланялись завоевателям, а за их спинами с презрением сплёвывали им вслед. Он уже не раз обследовал избу Виктора. Обшарил все углы, в надежде найти улики, указывающие на то, что этот угодливый с немцами старик на самом деле связан с партизанами.
Партизаны пошаливали в окрестных местах. Вот только напасть на их след не представлялось возможным. Но Василь понимал тактику партизан. Они никогда не устраивали диверсий вблизи от мест своего обитания. А так как в Савинках ничего более-менее подобного не происходило, сделал вывод, что находятся они где-то рядом. И связным у них является этот сухорукий старик, хитрый и егозливый. Умеющий контактировать со всеми в деревне, общающийся даже с военврачом санчасти.
Но на все доклады полицая комендант и военврач только смеялись.
И однажды Василю повезло. Он добрался до старой Викторовой избёнки. Там никто не обитал. В первые дни заселения, солдаты, неумело затопив печь, чуть не сожгли избу, спасаясь от дыма, разбили оконца и залили полы водой. Как-то он пролез в подпол и заинтересовался его содержимым. И в дальнем углу нашёл замотанную в тряпьё винтовку.
Схватив находку, Василь бросился к старику и за шиворот поволок к комендатуре. Состоялось долгое разбирательство, в ходе которого Виктор был избит и допрошен. Но на все вопросы ответ был один: "Ничего не знаю. Этот Василь за что-то затаил на меня злобу и придумал эту находку".
В избёнке Виктор не жил и с октября там не появлялся, а судя по смазке и внешнему облику, оружие туда положили недавно.
Так как комендант и военврач были хорошо осведомлены о ненависти Василя к старику, то пришли к выводу, что это сам полицейский и подложил оружие, чтобы подставить Виктора.
И военврачу, и коменданту совсем не хотелось настраивать против немецких солдат мирное население, что означало бы срыв налаженной работы по лечению раненных солдат. Потому они приняли решение отправить Василя от греха подальше на фронт. Пусть там утихомирится.
А что касается этой самой винтовки, уже много позже Серёжка признался деду, что это он её нашёл в лесу, смазал и потом спрятал в старой избёнке.
...Вскоре произошла ротация охранников, вместо отправленных на фронт в деревню прибыли чехи. Эти были более лояльными к местному населению. Как-то зазвали в избу Виктора. Довольно быстро поняли друг друга. Угостили привезённым с собой шнапсом. Смеясь, подначивали старика, что не выпьет он бутылку. Тот, уже хорошо поддавший, доказывал, что эта бутылка ему как слону дробина. В конце концов, напившись до невменяемости, вместо того, чтобы танцевать, как требовали собутыльники, старик вдруг запел:
Зачем я шёл к тебе, Россия,
Держа Европу всю в руках?
Теперь с поникшей головою
Стою на крепостных стенах...
Не закончив песни, старик свалился на пол и затих. Душка, прятавшаяся за печью, выскочила к лежащему свёкру, подхватила под мышки и поволокла к дверям. А чехи-собутыльники хохотали и хлопали в ладоши.
На улице у невестки приняла Виктора Марья. Вдвоём они дотащили под руки его до нынешнего жилья.
...Он ненавидел весь свет. Ненавидел этих холопов, которые, он это отчётливо понимал, презирают его за работу на захватчиков. Где бы он ни был на оккупированных территориях, эти тупые, на первый взгляд, и недалёкие люди в большинстве своём в нравственном плане были намного выше его. Он был свидетелем, как местные, порой и не видевшие никакой благополучной жизни ни прежде, ни теперь, шли на виселицы, не утратив своего явного превосходства и перед ним, и перед немецкими оккупационными войсками. Они видели свою правду, хотя он так и не смог понять, в чём она заключалась, и даже перенеся нечеловеческие пытки, оказывались несломленными. Оставались до конца верными тем идеалам, которые, он это отлично понимал, были навязаны народу исподволь и совсем не их друзьями. О, как он ненавидел этих искусителей, в своё время затуманивших и его сознание призрачными понятиями свободы, равенства, братства...
Георгий Ильич Белогорский ворочался на кровати в деревенском доме, и всё никак не мог понять, как он, дворянин, причислявший себя к сливкам высшего общества, мог повестись на пропаганду каких-то пришлых инородцев, обещавших блага несметные. Жужжавшим в уши, что высший свет империи себя изжил, что жить надо как в Европе, куда Георгий частенько наведывался. И ему хотелось этого шика и блеска. Что царский двор погряз в разврате, что царская семья хочет продать страну своей немецкой родне, погубив русское дворянство...
Теперь, когда ему перевалило за полсотни, хотя он выглядел моложе всех этих деревенских ровесников, он стал отлично понимать, что вот они-то, эти неграмотные лапотники, оказались намного умнее его. Да, и крестьяне, и рабочие приняли лозунги революции о равенстве, о братстве и свободе, потому что они отвечали их миропониманию. Но приняли опосредованно, реально понимая, что не всё провозглашённое сейчас в один момент состоится. Но эти лозунги грели их души, давали надежду на лучшее будущее пусть не для них, не сейчас, а для потомков, и ради этого готовы были терпеть все трудности неустроенности, голода, необоснованных репрессий, засилье инородцев в высших эшелонах власти.
Белогорский, с презрением в былые времена относившийся к крестьянам, считая их чуть ли не животными, способными разве что на безустанный рабский труд на хозяина, теперь, пройдя с немецкими войсками почти до Москвы, убедился в силе духа этого крестьянского племени. Неожиданно понял, что в большинстве своём эти люди бились за свою землю, на которой родились и трудились, поливая её кровью и потом, даже не для себя лично, а для всего своего рода, сознавая себя именно русской нацией в самом глубинном её понимании. А вот ему, дворянину, знающему свою родословную чуть ли не до самого Рюрика, этого ощущения единения с землёй, с народом её населяющим, и не дано. Что связывало его с центром России? Только имения, где холопы трудились на земле, позволяя ему благополучно жить в своё удовольствие, тратя деньги, полученные за заложенную землю на поездки в Европу, на пустое и бездумное веселье. Ещё остался в Москве дом, построенный прадедом, и который отец не успел продать до революции.
Лёжа в натопленной русской избе, Белогорский перебирал в уме все события своей жизни. Как он мог поддаться на лозунги и посулы инородцев, исподволь захвативших власть в стране, загадивших сознание призывами к мировой революции и устроивших уничтожение именно русского народа, именно самой сердцевины страны, всегда изливавшейся пассионарными волнами во все концы бывшей империи.
Пессимистические настроения Георгия Ильича стали посещать всё чаще. А ведь не так давно он с восторгом принял вошедшие в страну войска вермахта. Быстро договорился с оккупационной администрацией Львова, где в предвоенное время обретался с семьёй, поступил на службу в армию в качестве переводчика. И всё для того, чтобы вернуться в те места, где были его имения, чтобы потом предъявить свои права на эти земли. Но очень скоро понял, что для всех этих немецких бюргеров он был лишь человеком второго сорта, годным разве что в услужение великой арийской нации Германии. Что ни его происхождение, ни образование, ни заслуги перед новой властью ничего не значили в сравнении даже с самым захудалым немецким солдатом. И понимание этого давило на его душу неподъёмным страшным грузом.
Белогорский понял, что опять поставил не на ту карту. Надеялся вернуть утраченное, а превратился в обыкновенного предателя. Вскоре его самые потаённые сомнения в величии захватчиков получили прямое подтверждение. Войска вермахта так и не смогли взять Москву и потешиться, как в былые времена Наполеон. Получив яростный отпор, фашисты стали откатываться от подступов к столице.
Юхнов, январь 2018 г.