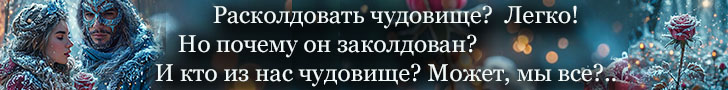Пора домой
Пора домой
Жизнь Василь Василича прожилась целиком, и он потреблял уже то, что Господь наделяет поверх, «аще в силах» то принять человек.
Как и когда закончилось время, Василь Василич не понимал. Весь отрезок времени он видел неразрывным, как длинную цепочку, натянутую от сегодняшнего дня аж до самых ранних воспоминаний. И цепочка та была целой. Но внутри Василь Василича стонала какая-то удивительная растерянность, потому что выглядело прожитое время длинным, а ощущалось коротким. Может потому, что не мог он взглянуть на время сбоку.
Разглядывая прожитое, вспоминал Василь Василич только давнишнее, новое доставал из памяти лишь по нужде. Ибо дальнее помнилось ему как-бы живым, шершавым, горячим и желтым, как зимой помнилось ему лето. Недавнее же казалось стеклянным, пустым и синевато-серым, как помнилась ему зима зимой.
Свое детство он вспоминал наедине, и то, не специально, а когда само попросится. Обыкновенно оно сгущалось в голове днями, когда Василь Василич возился во дворе.
Когда же хаживал он к людям, бредя вдоль кладбища, то вспоминал отца, который, помирая, глядел на него с удивлением и торжеством, ловил воздух губами и все силился сказать что-то важное, что открыла ему подступившая смерть.
Но не сказал, унеся тайну с собой.
Вечерами Василь Василич с женой Ольгой Степановной вынимали из памяти большей частью воспоминания общие, чтобы вместе провести свободное время. Да и получалось так интереснее, объемнее и яснее.
И прожитое послушно пробегало перед их внутренним взором, как пробегают и мелькают окошки ночного поезда. Они всматривались в эти “окошки”, мечтая заново прокатиться по трудному, горькому подчас, но такому желанному маршруту. Но повторных билетов не бывает.
И вся их жизнь, которую они видели из сегодняшнего, как с перрона последней станции, выглядела удивительным и странным, но так и не понятым даром. Самым быстрым скорым поездом, который неумолимо мчался, отсчитывая каждому положенное: “Бубум-бубум, бубум-бубум…”
– Я так и… И не понял я, – вырвалось у Василь Василича, изумленно глядящего замутненными глазами куда-то в сторону, в своё. Он согласно кивнул несколько раз своим мыслям, усмехнулся и слегка развел руками перед собой. – Куда оно… Мелькнуло... И нету. Удивляюсь я.
Ольга Семеновна взглянула на него быстро, потом в ту пустоту, в которую глядел теперь Василь Василич, задумалась, составляя в голове ответ, но зацепилась там за какое-то свое воспоминание, увлеклась им и снова воротилась к созерцанию воздуха перед собой.
Среди всех прочих мелькающих в памяти огоньков самым главным был Сашуткин - воспоминания о единственном их сыне.
– А помнишь, как он…– разогрелся было Василь Василич, залюбовавшись памятной грезой, но умолк. Потом, рассмотрев образы детально, он устал, вздохнул с тяжестью, снова чему-то покивал головой и улыбнулся. – Да… Тако-ой был…
– А что? Что? – оживилась Ольга Степановна и снова глянула на мужа. Ей тоже не терпелось вспомнить то, что уже начал вспоминать муж. – Ты про что? Про какую ты… какой день?
– Да, как я, помнишь, первый отпуск получил на новой работе? – Он смотрел в никуда потеплевшими, ослепленными грезой глазами. – Мы тогда еще…
– На озере? Как на озеро ходили? Ты про это? – торопливо оборвала его жена.
Василь Василич кивнул.
– Да-а… – успокоилась Ольга Семеновна, направила взгляд в пустоту, в какую сейчас невидяще заглядывал муж - где-то напротив распустившегося молодого подсолнуха на их клумбочке, над которой жужжали запоздалые вечерние пчелы.
Ольге Степановне живо припомнился муж, молодой и высокий, милый их малыш Сашутка, необъятная озерная гладь, в которой отражалось огромное летнее солнце, и яркий, чистый песок на пляже. Там, в том огоньке воспоминаний, они смеялись, смотрели друг на друга с восторгом, дышали бесконечным будущим, юные, пылающие на солнце и еще не ведающие скоротечности.
Потом, до блажи уставшие от воды, чуть не целиком они глотали пирожки с яичными желтками, которые крошками падали на любимое ее покрывало в ярких кувшинках. И она была счастлива до краев. Молодая, здоровая и дерзко красивая, в широкой соломенной шляпе, которую потом, кстати, долго искала. Думала, что потеряла, и глупо расстраивалась. А шляпа нашлась годы спустя на чердаке, потому что там Сашутка втайне пытался выкроить костюм мушкетера. – Это мы давно не вспоминали. Это ты хорошо-о… Тогда ему было… Да, ровно пять!
– Взрослый такой был. А добрый. Добрый был мальчишка! – осененный открытием, Василь Василич нехотя вырвался из воображений, сфокусировался на сущем и взглянул на жену. – Лягушек жалел, головастиков всяких. Насобирал в банку и… вроде питомцев. Любить их буду, говорит. И любил, нянчился. А когда уезжали, вылил их в озеро, домой отпустил, и плачет, аж заливался. Ручкой им машет, прощается навсегда…
Она посмотрела на мужа, будто удивляясь его удивлению.
– Ну а чего ж? Конечно. Конечно добрый, – и опять вернулась к пустоте, выискивая важные тонкие детали того далекого дня: – В таких тогда шортиках был светленьких. Я их из твоей летней рубашки сшила. Бежи-ит по воде, хлюп! хлюп! Брызги… Вот он хохотал, дорвался до воды!
Она хмыкнула довольно, по-детски покачалась на скамье, улыбательные ее морщинки вокруг глаз собрались в паутинки, а щеки вздрогнули.
Василь Василич припомнил вареную кукурузу, блестящую от солнца июльскую воду, брызги, визги пляжной детворы и Сашутку в середине картинки:
– Ну, он молодец! Он, прям, я помню, совсем воды не боялся, – гордый отец улыбнулся и залихватски взмахнул рукой. – Другая мелочь пищит, а этот так и прет в воду.
– Да ну-у! – не согласилась Ольга Степановна и нервно поправила узел платка, свившийся воротом у горла и, вроде бы, мешающий дышать по-временам. – Как вспомню! Ужас какой-то, страху натерпелась. Так и прет в эту воду!
Оба вздохнули и замолчали.
Воспоминаний о Сашутке сохранилось немного. В голову лез липнущий к тому дню мусор, никак не интересный и не добрый, но который, если различить яснее, тоже помнился, хотя и поднимал в душе дурные мути.
Отредактировано: 11.05.2023