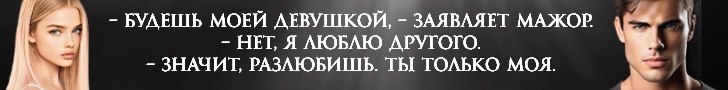Посади меня в высокую траву
Посади меня в высокую траву
Посади меня в высокую траву
К утру ветер, двое суток что есть силы стучавший в Шуркино окно, выдохся, поник и почти виновато поскрипывал оторвавшейся ставней. Звуки его покаянного присутствия стали перекрываться другими, мягкими, щекочущими слух, так хорошо знакомыми только-только проснувшемуся мальчику: бормотало море. Что уж они не поделили – ветер и море, дубасившие друг друга с позавчера, Шурка знать не мог, он был всего лишь девятилетний ребёнок, но его симпатии явно были на стороне моря: море Шурка любил до самозабвения.
Первый лучик солнца своевольно скользнул на Шуркину подушку, уткнулся ему в лицо, заставив мальчика прищурить один глаз, – отворачиваться от долгожданного гостя тот и не собирался. Лучик, конечно же, ожидал, что сейчас с ним начнут играть, прятать в осколок зеркальца, а потом и до салочек дело дойдёт. Но проснувшийся мальчик, теперь уже целую ватагу солнечных лучей удивляя своей недетской степенностью, продолжал лежать в постельке. Выпростав худенькие ручонки, он схватился за две брезентовые петли, свисавшие с перекладины, протянувшейся по всей длине его кровати. Подтянулся, ловко и умело, присел, подоткнув сбившиеся подушки. Вытянув голову на слабенькой шее, радостно улыбнулся – за окном мирно пошлёпывало тихой волной море, на таком знакомом Шурке наречье приглашая к задушевной беседе.
Солнечные лучики потоптались на его коленках и, не вовлеченные в игру, обиженно сбежали на край стола, покрытого светлой плюшевой скатертью с кистями, круглого, стоящего на толстопузой ноге с тремя опорными завитками. Лучики не знали о Шуркиной беде, – они каждый день были новые, легкомысленные и нелюбопытные.
Море о Шуркиной беде знало всё.
…Нянька, молодая и неопытная, выронила семимесячного Шурку из рук, когда пеленала его. Перепуганная, не сообразив позвать на помощь старших или вызвать врача, подвывая, несколько часов металась с ним по дому, непрестанно орущим на высокой пронзительной ноте, теряя драгоценное время. Перед Шуркиной матерью, оповещённой соседкой, с немым криком вбежавшей в комнату, она упала на колени и завыла уже в голос. На этом свете отсчитывать свой отпущенный срок нянька осталась только оттого, что Шуркиного отца, человека военного, крутого на расправу в тот день в городке не было.
Так в жизнь крохотного существа вошли слова «калека», «санаторий», «паралич»…
Кем-то там, на Небе прописанная судьба со всей яростью вступила в свои права. Семья отчаянно боролась с бедой, не веря, что любимый комочек, так мирно пахнущий молоком, не сможет сделать первый шаг, и все последующие... Каждое полуобещание врачей, каждый слух или заметка о выздоровлении людей с подобным диагнозом воспринимались ей как добрый знак, становились великой надеждой. И грезились непреложной наградой тому, кто звонко и отчаянно сопротивлялся несправедливости мира, – ему, Шурке… Отец сумел получить перевод в небольшой приморский городок, убедив начальство, что только море поднимет на ноги младшего сына.
Море старалось, как могло.
Оно оказалось тёплым и ласковым. В тот первый день, когда его и таких же бездвижных и настороженных, а то и просто ревущих ребятишек вкатили на специальных каталках в море, Шурка безоговорочно поверил этой тёмно-синей стихии, прогретой, едва колеблемой ленивым ветерком, шелковистой, обнимающей мягко и заботливо. Одна озорная быстроногая волна легонько шлёпнула Шурку прямо по щеке, отбежала, потом вернулась, перекатилась через его грудку, столкнулась с рядом стоящей каталкой и игривым котёнком скакнула по недвижным ногам. Поняв настроение волны, Шурка засмеялся, легко и радостно, заколотил ладошками по воде, приподнял головёнку, спеша закрепить такое приятное знакомство. Нянечка, пожилая женщина ахнула, перекрестилась и, утерев концом косынки глаза, выдохнула: «Христос с тобой! Поднимешься…»
Море стало Шуркиным другом. С морем у него были заключены пакты и договоры, – исключительно мирные. Сутками они смотрели друг другу в глаза, шептались, перемигивались, за исключением тех дней, когда невесть откуда срывался сердитый ветер и затягивал небо серым пологом. Тогда прогулки отменялись. Но и в дни ненастья их общение не прекращалось: море яростно рвалось Шурке навстречу, протестовало против разлуки, не умея достать до его окошка, а потом хвалилось, как знатно оттрепало этого забияку, своего вечного летучего соперника: северный ветер был нередким гостем в их городке. Шурка от души радовался за друга, тянулся в сторону окна и махал морю ручонкой. Сколько Шуркиных тайн хранило море! Оно всё понимало, это бескрайнее синее величие. Оно было намного старше Шурки, настолько, что даже и подумать было страшно. И оттого было достойно Шуркиного доверия. Сокровищами, которые хранились в его седых глубинах, море щедро делилось с теми, кто в них нуждался. Шурка, к примеру, очень нуждался, и в рапанах, и в перламутровых ракушках, а особенно, в тех, с дырочками, что зовут «куриным богом». Ими у него была забита тумбочка. Ими он одаривал всех, кто его навещал: маму и отца, сослуживцев отца, конечно же, старшего брата, друзей брата, и просто тех, кто навещал других детей. Шурка был совсем нежадным.
Все нянечки санатория, куда определили Шурку, были похожи на больших величавых птиц: длинные белые халаты с завязками на спине, белые косынки, глубоко надвинутые почти на глаза, белые, как казалось мальчику, лица. А как иначе? – лица нянечек и не могли быть другими – столько горя проходило перед этими лицами ежедневно…
Четырёхлетнему обездвиженному мальчику думалось о другом: кто заводит будильник для солнца?.. отчего у деревьев каждый день разные голоса?.. а эти чёрные росчерки, похожие на пальцы, которые бегают по ночному окну, они – кто?.. отчего море солёное, а не сладкое?..