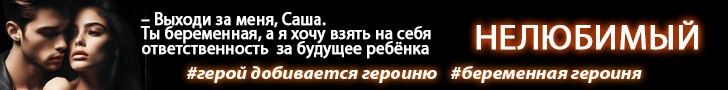Прошлое
Прошлое
Мелкий холодный дождь зарядил ещё до рассвета, приглушая звуки, скрадывая перспективу за кисеёй серой пелены. С холма открывался вид на заросший камышом берег спокойной речушки, на покосившиеся крыши домов. Они и в хорошую погоду едва проглядывали из-за буйно разросшихся деревьев, а сейчас и вовсе утонули в водяной завесе.
Он вздохнул. Что-то натужно заскрипело в сенях. На крыльцо выскочил взъерошенный Пафнутий – хвост огненной метелкой, единственный глаз возмущенно вытаращен. Пустой двор огласил недовольный кошачий мяв. Высказав таким образом своё недовольство, старый кот примостился на верхней ступеньке, куда не попадали брызги стекающей с крыши воды.
Тусклый свет из давно немытых окон падал на пожелевшие фоторгафии в простеньких рамках, три маленьких и одну – побольше. Поблёкшая красками грамота лучшей доярке колхоза «Победа», Журавлёвой Галине Ильиничне, обошлась и вовсе без рамки, прибитая к стене тремя сапожными гвоздиками. Она покоробилась от влаги, но слова, и даже фиолетовую печать на подписи Михалыча, директора колхоза, ещё можно было разобрать.
Отчего-то вспомнился далёкий летний день. Ивашка катает по столу машинку на деревянных колёсах, солнце силится заглянуть в чистую комнату сквозь марлевые занавески и уютную зелень, торчащую из цветочных горшков.
– Галка! Гал-ка! – звенят голоса из кузова колхозной полуторки, поднявшей пыль у самой калитки.
«Галка» – молодая, крепкотелая Галина Журавлёва торопливо повязывает косынку перед маленьким зеркалом...
Оно и сейчас висело на старом месте. Амальгама – в старческих пятнах времени, загнутые гвозди цепко держат стеклянный прямоугольник, словно тонкие ржавые пальцы.
Над рассохшимися половицами пролетел сквозняк, шевельнул скомканный лист бумаги в углу, возле печи, поднял и бросил легкое пёрышко. Пафнутию удалось поймать воробья на прошлой неделе, вот память о нём и вспорхнула со щелястых досок...
Дождь прекратился. Промытое небо тут и там голубело за истаивающими тучами. В лужи под стоками звонко капало с мокрой крыши, бочка под сливом стояла полнёхонька. Трава у крыльца прилегла под тяжестью воды, и двор не выглядел таким уж запущенным. Над крышей совсем прояснилось, и – ах! – брызнуло солнце, согревая, прогоняя сырую тоску. Запарили почерневшие от времени брёвна стен, и старая скамейка-пристенок в две доски, пережившая три поколения семьи, и все ёщё крепкая.
Пафнутий спрыгнул с крыльца и направился к висящей на одной петле калитке, брезгливо подёргивая намокшей в траве шкурой.
Под полом немедленно оживилось буйное семейство полёвок, переселившееся невесть откуда еще прошлой осенью. Зашуршали-заскребли крохотными коготками. Забегали туда-сюда. Любопытнная мордочка высунулась из щели, подрагивая усиками. Носишкко дёргался, бусинки глаз блестели. Миг, и серо-коричневая молния порскнула к смятой бумаге в углу...
– Но-но! – он вздрогнул так резко, что закачались рамки на стене. Закивали друг другу застывшие в напряжённых позах портреты Семёна, Галины, Ивана и самый большой – Наталки, Иванковой дочки, что жила теперь далеко-далеко. Так далеко, что он и представить себе не мог эту даль. Мышонок подпрыгнул на четырёх лапках от неожиданности и метнулся прочь. Под полом воцарилась испуганная тишина.
Старый дом снисходительно хмыкнул про себя, и надолго задержал взгляд над оставленной людьми деревней, над рекой, над заросшим полем на другом берегу. Зацепился за тоненькие чёрточки столбов за полем, убегающие из застывшего прошлого куда-то далеко вперёд, в будущее, куда так отчаянно стремятся люди.
Скомканный листок – последнее письмо старика Ивана, которое он так и не дописал безвозвратно уехавшей в свои дали дочери, лениво шевелил вездесущий сквозняк...