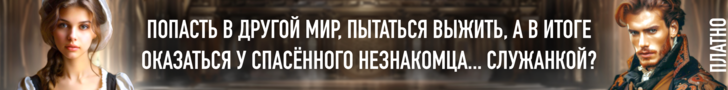Проводница
Глава 4
Ей было тогда тринадцать. Родители недавно развелись, с драками и скандалами – все как было положено в их пролетарском городишке. Отец ушел к другой. Женька (тогда ее никто еще не звал Женечка) старалась приходить домой как можно позже, чтобы не видеть распухшую от слез и вина мать. В тот летний вечер она поздно, в двенадцатом часу, возвращалась из кино. Шла не спеша и, играя во взрослую, потягивала невкусное пивко. В кармане для понтов лежали сигареты, но курить она не любила. От табака першило горло и она кашляла, как чахоточная. Настроение было хорошее.
Добрая половина уличных фонарей была разбита, а уцелевшие освещали пустынную улицу через раз, то проваливая ее в темноту, то высвечивая тусклыми пятнами жилые дома по левой стороне и огромный пустырь с недостроенным корпусом химкомбината по правой. В небе ярко светила луна. Она отбрасывала от тоненькой Женькиной фигуры тень, и Женька забавлялась, наблюдая, как с каждым шагом тень то плющилась до квадратной коротышки, то вытягивалась в долговязую фигуру с ножками-веревочками и ручками-ниточками. Прям как в комнате смеха с кривыми зеркалами.
Она приближалась к дому, уже виднелся ее подъезд, как вдруг сбоку из темноты высунулась мужская рука (Женьке она еще долго снилась в кошмарах), ухватила ее и с силой, резко, так, что она сразу свалилась, как подкошенная, дернула в кусты и поволокла вглубь заброшенной стройки. Женька вырывалась, кричала, звала на помощь, но получила чем-то тяжелым по голове и очнулась от дикой, разрывающей боли и толчков тяжелого, пыхтящего тела, пронзающего ее со словами «сучка, сучка, сучка, так тебе, так тебе». Она царапалась, кусалась, но снова получила по голове и потеряла сознание уже надолго.
Пришла она в себя ранним утром от боли и холода. На слабых, дрожащих ногах поплелась домой по тихой, спящей улице. Сонная, нетрезвая мать открыла дверь, охнула, зарыдала, рухнула перед ней на колени, обнимая и целуя ноги с запекшейся кровью. А у Женьки внутри была такая пустота, что даже плакать было нечем. Постучи по ней, и отзовется она долгим, гулким эхом. За окном все так же горели щербатые фонари, и солнце сменяло на небе отдежурившую луну, заливая все вокруг нежным, розовым светом.
Судебное разбирательство длилось недолго. Насильнику, тридцатидвухлетнему отцу двух детей, светило двенадцать лет, но из Россоши приехала мамина старшая сестра – Афоня, и дело закончилось быстро и полюбовно, как говорится, к полному удовлетворению заинтересованных сторон. Афоня держала в Россоше пивной ларек, в коммерции знала толк, обладала деловой хваткой, а уж договариваться о чем бы то ни было вообще было ее второй натурой. Звали ее Анфисой, но за крутой нрав и мужской характер сначала ее шутливо прозвали Афанасием, а потом сократили до Афони.
- Дура ты, Любка! Предлагают деньги – бери! Твоей-то уже четырнадцать скоро будет, - внушала она сестре, не обращая внимания на Женьку, которая здесь же, в комнате, лежала на разостланном диване лицом к стене, внимательно слушала разговор и обводила пальцем узор на обоях. - Не сегодня-завтра потеряла бы она свою девственность забесплатно, а так хоть деньги заработаешь на этом, жизнь заново устроишь. Сколько дают-то?
- Да много. Сначала пять, а теперь восемь тысяч долларов предлагают.
- Чо?!! Какие такие восемь тысяч?! Они чо, охренели, козы драные? Совсем совесть потеряли?
- А сколько надо-то?
- Сколько-сколько… - Афоня задумалась, засопела, опрокинула стопку домашней наливки, крякнула и решительно изрекла: - Двенадцать! И не тыщей меньше! За год по тыще. Свобода денег стоит. Все по-честному. На эти деееньги, - голос Афони мечтательно поплыл вверх, но о чем она подумала так и осталось неизвестным, потому что уже через секунду она спустилась с небес и жестко сказала: - Да на эти деньги ты переедешь ко мне в Россошь, купишь домик и заживешь как человек. И мужичка мы тебе там подберем, у меня есть на примете парочка вполне приличных!
Женька услышала заливистый смех Афони и мамино стеснительное: «Да не нужны мне никакие мужики».
- Я не поеду ни в какую Россошь, - тихо сказала Женька, сосредоточенно обводя пальцем ромбы.
- А тебя, малявка, никто не спрашивает! Ты еще три года поживешь с матерью, а потом свалишь от нее с каким-нибудь кабелем.
- Анфис, - остановила ее мать. – Не надо с ней так. Ты же видишь, в каком она состоянии.
- А чо не надо-то? Чо не надо? Ты, Женька, о матери-то подумай! Вот закончишь школу и свинтишь отсюдова. А мать твоя, значит, мыкайся тут в одиночку, травись на химкомбинате до гробовой доски, да? И вообще, это разговор для взрослых, так что сопи в две дырки и помалкивай давай.
- Анфис! – снова одернула ее мать.
- Чо Анфис-то? Я дело говорю. А ее отец, кстати, что говорит?
- Хм, - мама презрительно хмыкнула. – Говорит, может, деньгами взять, а то, говорит, толку-то от того, что этот подонок в тюрьме будет сидеть. Пусть, говорит, заплатит лучше, коли у него денежки есть. Ну и говорит, если деньгами возьмешь, то, говорит, не одолжишь ли мне тысчонку, а то, говорит, у меня сын больной родился, и деньги на лекарства нужны.
Женька натянула плед на голову и, стиснув зубы, тихо заплакала. Недавно в школе они проходили строение земли, и она запомнила, что внутреннее ядро плавится и кристаллизуется одновременно. Тогда она не поняла, как это возможно, но сейчас, лежа под одеялом и молча глотая яростные, жгучие слезы, чувствовала, что в ней, как в земле, что-то переплавляется и очень больно кристаллизуется.
Суд состоялся. Строгая судья с черной зализанной прической, в черной мантии, больше похожая на зловещего ворона, чем на женщину, сухо зачитала оправдательный приговор и, отсекая обсуждения, стукнула молоточком по деревяшке. Как на аукционе: «Продано!» Только молоточек не аукционный.
Скоро Афоня помогла матери купить в Россоше недорогой и симпатичный, как на пасторальной картинке, домик с крохотным огородом и палисадником, увитым цветущими розами, на которые слетались беззаботные бабочки, жуки и трудолюбивые пчелы. Пожить долго в этом доме не удалось. После школы Женька уехала в Москву и поступила во ВГИК. А через полтора года после этого умерла от рака мать. Женька стояла у гроба без слезинки в глазу, со странным чувством пустоты и отрешенности. Она всматривалась в высохшее до неузнаваемости лицо и думала о двух вещах: как можно изобразить окаменевшие мышцы и как поскорее вернуться в Москву и забыть все это. На следующий день поезд увез ее из Россоши и больше ноги там ее не было. После похорон Афоня прибралась в доме, а потом и весь дом прибрала к рукам, выплатив Женьке смешные деньги от его продажи. «Нынче все в горад едуть, а не из горада. Как тут прадать дом задорага-то?» Женька вспомнила, как покойница-мать смеялась: «Если Анфиска начинает вдруг гыкать да акать, значит рыльце в пушку. У нее этот говорок заместо стыда появляется».