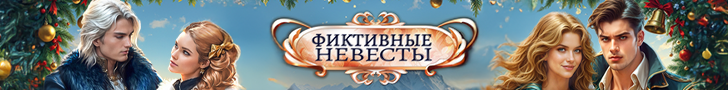Пряха
Пряха
Бабка Эгле слыла на деревне ведьмой. Только самые ветхие старожилы помнили, что Эгле — тогда ещё молодая девчонка едва ли двадцати лет — приехала в Сибирь в самом начале войны, вместе с другими переселенцами. То ли сбежала, то ли выслали прочь. Поговаривали, она приехала с дочкой, но таким слухам не верили. У Эгле был сын, зачатый уже в послевоенные голодные годы, и совсем на бабку непохожий — рослый, русоволосый и голубоглазый, как большинство местных уроженцев. От кого она его прижила, никто не знал. Кто-то говорил о вернувшемся с фронта калеке, чей разум не смог выбраться из военных окопов. Кто-то — презрительно, через губу — шептал, что, мол, к Эгле бегали чуть ли не все деревенские мужики, поскольку девка жила одна и защитить её было некому.
Впрочем, таким слухам и в самом начале-то не больно верили — Эгле побаивались и уважали, потому что она знала как вылечить и человека, и скотину, да ещё как заговорить поле, чтобы родило на зависть ближним деревням. Шептали, что однажды к ней в дом вломился пьяный детина, а на следующее утро издох, захлебнувшись пеной.
Однако молодежь в ответ на шепотки только смеялась и качала головами: бабка как бабка, нет в ней ничего колдовского. Разве что глаза: один — темно-зеленый, как еловая хвоя; второй — прозрачно-желтый, как янтарь. Вот и вся «ведьма». А что медицину знает — так сразу видно, что Эгле из образованных, пусть о своем прошлом и молчит.
Однако насмешки не мешали им бегать к бабке тайком и просить то погадать, то составить какой набор трав, а то и вовсе — спрясть особую нитку, повязав которую на запястье, можно смело браться за любое дело.
Бабка Эгле пряла такие нитки, что, казалось, они сами укладывались в рисунок, опережая спицы.
Все в деревне знали, что невзгоды и беды не сломали Эгле — такой же прямой оставалась её спина, хотя волосы уже давно побелели, и такими же зоркими были глаза, невзирая на долгие часы у прялки. Эгле всегда казалась деревенским неотъемлемой частью их мира, несгибаемой и невозмутимой, как сосна, пережившая и грозы, и молнии, и войну.
И тем сильнее было их потрясение, когда бабка, увидев невесту своего внука, — такого же рослого, русоволосого и голубоглазого, как отец, — вдруг вся скривилась и заорала, что ноги этой «белобрысой немчуры» в её доме не будет. И не пустила. И не приехала на свадьбу, хотя внук чуть ли ей в ноги не кидался.
Бабка Эгле так и не простила своенравного внука, заперлась в старом доме и уселась за прялку.
...Жужжит колесо, и вьется нить из прошлого в будущее. Вперед-назад, вперед-назад. Вплети в шерсть ненависть и злобу, которые лелеяла десятилетиями, словно ребенка, не пережившего очередную зиму. Крутится колесо — нескончаемый бег времени, всегда возвращающегося в одну точку. Не оно ли на своих спицах принесло отголосок гнилой крови в земли, которые стали могилой для последней надежды рода?..
Колесо беспощадно.
Вьется нить, свивается удавкой. Затяни потуже, почувствуй, как угасает дыхание дурной крови. Поймай улетающий выдох за краешек крыла и вплети его в новую нить, добавляя надежды, бесплодные, как ты сама, мечты и память, что режет ножом. Что-то да выйдет из отобранной жизни и прядей твоих волос. Крутится колесо, не двигаясь с места.
Если спросить, то деревенские расскажут, что бабка Эгле простила внука, когда его жена забеременела. Какая женщина не захочет прижать к груди правнуков? Только вот роды вышли тяжелыми, и ненавистная «белобрысая немчура» истекла кровью, несмотря на все усилия городских докторов. Младенец выжил, но в дни траура отцу не было до него никакого дела. Наверное, именно поэтому он и позволил бабке назвать дочку Сауле. Вернее, ему было всё равно, какое имя носит ребенок, отнявший у него жену.
Чужое, неблагозвучное имя навевало мысли о далеком береге, на который море то и дело выносит камни цвета солнца.
Старая Эгле бережно складывает в сундук клубок пряжи.
Поговаривают, отец так и не простил дочери мучительной смерти любимой жены, поэтому и сбросил младенца на отца с матерью, а сам остался в городе.
Девочка росла и чем дальше, тем больше походила на подменыша в собственной семье — худенькая и темноволосая, непохожая ни на отца, ни на мать, ни на деда с бабкой. Кто-то шепнул однажды, что, может, и вовсе чужая кровь, на что сын Эгле только поджал губы и твердо сказал, что внучка похожа на его мать в молодости. И глаза такие же — разноцветные. Ведьмины глаза.
Из-за этих-то глаз да диковинного имени маленькую Сауле невзлюбили деревенские дети — домой она частенько возвращалась, шмыгая разбитым носом, а то и с синяком под глазом. Деревенские бабки качали головами и говорили, что проку из девчонки не выйдет. Ладно бы ещё молча сносила насмешки, может, и отстали бы, но ведь нет, лезет в драку, хотя сама на голову ниже обидчиков.
Дед с бабкой охали и бранили внучку, а потом приходила Эгле — упреки тут же стихали, — велела девочке умыть лицо и уводила к себе. Садилась за прялку и под мерное жужжание колеса рассказывала о далеком морском береге, куда ведьмы выходили собирать янтарь, чтобы сделать из него обереги. О священных рощах, где ведьмы возносили хвалу матери-Земле и матери-Солнцу. О кострах выше деревьев, что ведьмы зажигали четырежды в год.
Сауле жадно вслушивалась в истории прабабки, представляя, каково это — жечь костры у незамолкающего моря, ступать босыми ногами по самой границе волн и выискивать янтарь в неверном свете луны. Она, не моргая, смотрела на вращающееся колесо, и ей казалось — вот-вот оно спрыгнет с оси, загорится ярким пламенем и понесется по кромке морского берега.
Отредактировано: 02.01.2021