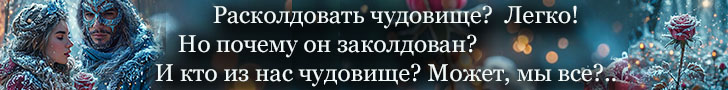Путник
Путник
Когда Рене привёл к нашему дому путника в запылённом дорожном плаще, я не удивилась: долг всякого доброго человека дать ночлег страннику, если есть такая возможность, преломить с ним хлеб и разделить крышу. У нас с Рене такая возможность была – для нас двоих наш дом был слишком большим и пустым. И таким ему, по воле небес, было суждено оставаться.
–Не гневи небо, – говорили мне целители, – на всё его воля!
Я молчала. Рене тоже. Он не упрекнул меня ни разу в моей несостоятельности, но я знала его страдание. Я знала и не желала быть причиной его мук, потому и решилась:
–Мы можем подать прошение в Цитадель…
Рене даже слушать не стал, прервал мою мысль ещё в начале:
–И думать забудь! Я люблю тебя, ты любишь меня, так и будем жить. Вдвоём.
Странная вещь – целительство! В книгах Цитадели есть записи о том, что ещё два века назад средняя продолжительность жизни была всего лишь семьдесят-восемьдесят лет. И только после Великой Войны она стала нормальной и достигла в среднем трех сотен лет. Я помню, как ещё детьми мы смеялись, представляя, как несчастные люди прошлого должны были за семьдесят лет научиться, поработать, пожить и умереть. Уже к пятидесяти годам они наблюдали старение и слабость… сейчас думать об этом многим смешно. И мне тогда, в школьные годы было смешно. А сейчас стыдно.
Наверное, у всех этих людей было больше смысла в жизни. Они успевали понять и прожить по-настоящему. А мы? Есть те, кто обрёл долгие пути, обрёл себя в творчестве или в науке, кто-то реализовался в семье. Но я успела к своим годам уже добиться определённых высот, как и Рене – выше головы не прыгнуть ни ему, ни мне, и я надеялась жить в детях. Но небеса коварны. Они дали мне долгую жизнь, медленное старение и не дали мне смысла. Я мечтала о счастье и вот теперь живу, обречённая жить долго, жить бессмысленно.
Рене заботился обо мне. Он искал для меня суть и новые свершения. По итогу, к своей первой сотне я выучила девятнадцать языков, овладела игрой на семи музыкальных инструментах, сносно рисовала, плела, вышивала бисером и крестиком, умела водить машину, пилотировать пассажирский вертолёт и совершенно не нуждалась в деньгах. Но десятки навыков не перекрывали пустоту.
–Я люблю тебя. – Рене напоминал мне каждое утро об этом. Каждое утро, что я жалела о том, что пробудилась.
–И я тебя.
Мой ответ был ложью. А может быть и не был. Я давно не знала и боялась знать. Не ведала смысла и удивлялась, превратилась сама в живую бессмыслицу, а раздражение, живущее во мне, всё труднее удавалось держать в тюрьме моего сердца. И раздражение было к весёлым соседям, к Рене, к бессмысленному «я люблю тебя…»
Я надеялась, что мне поможет ребёнок, но небеса не дали мне этого. С надеждой я предложила Рене разойтись. Конечно, нехорошо, Цитадель не одобряет разводы до второй сотни лет, но что делать? Я надеялась, но Рене был сильнее меня:
–Думать забудь!
Я кивнула. Думать не забыла, но отстранялась, чтобы не сваливать всё внутренне раздражение от пустоты на него. Он чувствовал и страдал. Пытался сделать что-то, но я не позволяла себе растаять и поддаться. Я надеялась на то, что ему надоест со мной возиться и тогда он уйдёт.
Наверное, я его всё-таки любила сильнее, чем хотела всегда показать. Если бы его бросила я – он бы страдал. А если бы он ушёл сам – его страдание было бы меньшим.
Когда он привёл с дороги путника, я не удивилась. Это было похоже на него. Так похоже на Рене, моего доброго Рене…
***
Запылённый дорожный плащ путника не отстирала от грязи даже та дрянь, за которую я выложила пару десятков золотых монет. Значили бы для меня что-то деньги, плакать бы мне горючими слезами. А так лишь смешно.
Путник молод. Но взгляд у него усталый и замученный. Такого взгляда у молодых не бывает. Он пронзительный, он смотрит сквозь мою плоть куда-то в мою изъеденную душу. Путник вежлив и учтив, его манеры не подходят людям дороги.
–Как вас зовут? – Рене выставляет перед ним чашки и тарелки. Он любит сам принимать гостей. А может быть, он просто знает, что я всего этого не люблю.
–Бертран, – путник говорит с едва заметным акцентом. Что-то с югов, слишком долгая гласная.
–И куда вы идёте? – продолжал Рене, улыбаясь. Разумеется, ему всякое общество приятнее моего. Но он меня любит и не скажет этого.
–Я иду за богом, – отвечает Бертран с достоинством, хоть голод его очевиден, принимаясь за еду.
Я бросаю взгляд на Рене. Он заботится обо мне и развлекает меня, он не думает даже меня оставить, а ведь я бы на его месте давно бы себя прибила и считала бы себя правой. Он меня любит. А я?
Я вспоминаю день нашей свадьбы. Невольно вспоминаю. Тогда было солнце, тогда нам желали прожить до трёх сотен лет в согласии и в любви. И я была уверена, что это будет легко.
Наверное, людям прошлого было легче. К моему возрасту они уже были мертвы лет тридцать-сорок. Им легче было любить. Но я должна показать Рене свои чувства и я отзываюсь:
–Вы из церковных? В наши дни их редко встретишь!
Бертран качает головою:
–Нет, я не из церковных. Я иду за богом, а не за церковью.