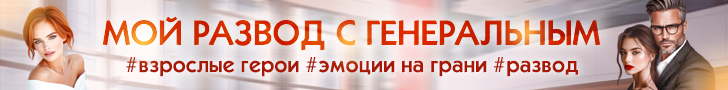Рукопись
Рукопись
Дощатый пол, старый стул, письменный стол. Много бумаги, печатная машинка. Карандаш, перо, чернильница. На полке несколько книг, по полу стопки бумаги, да ещё книги. Ещё кровать. Не застелена. Так и раздражает. Но если сидеть спиной - не мешает.
Забыть о ней немного сложнее, чем застелить, но отступать перед сложностями, это не для мыслителей. Ещё скажите - пойти работать на завод. Это каждый может. Все комнаты в таких жильцах. А вот папиросы делают солидную брешь в бюджете. Но без них ещё хуже.
В двери показалась Зина: Фрол Федотыч, обед в два подам. Приходите, а то останетесь как вчера.
Я бессмысленно посмотрел на неё. Она улыбнулась и прикрыла за собой дверь.
Да. Брошу курить, так хоть на комнату и обед станет хватать. Но куда же тогда девать себя. Если голова и перо плохо кормят – самое лучшее – сидеть и курить время. А Зине спасибо – ещё кормит. За комнату ей должен, а кормит. Ну а чего ей не кормить-то. Молодая, дел особенно нет. Добродушная простушка. Ей на этом месте хорошо, и ни о чём она не думает, мечты её не далеки, и ничего-то особенного ей не надо.
А я отравленный. Шёл бы хоть на завод. Вон, соседи - всё более заводской народ. И я бы мог, счетоводом каким-нибудь сошёл бы. И никаких проблем. Живёшь, овощишь себе потихоньку, платишь по счетам, какие тебе скажут, и не имеешь особенных желаний. А ведь нет, сижу тут, музу мучаю. Ведь был однажды отравлен её высоким светом.
Кто им отравлен, тот всё время его хочет хоть немного получить. Даже если он совсем бездарен, он не может забыть этот сладкий лучик. Как наркотик. Если раз увидел - не развидишь. Узнал - не забудешь. Почувствовал - уже не прежний. Ты помнишь эту сладость. Ты знаешь, что это можно достать. Ты оставляешь всё и ищешь пути к нему.
Я ненавидел себя. За свою бездарность и за свои амбиции. И больше, яростнее курил. Уж, наверное, помру от папирос или же сделаю что-нибудь. Напишу строки.
В комнате было сухо и серо. Так сухо, что серо или так серо, что сухо - не знаю, папироса сжигала последнюю влагу, а потом горчила во рту, дым щипал красные глаза. Цикличность дня и ночи была давно нарушена. Графики сбиты, стрелки бессмысленны.
Меня укусила прекрасная свобода, эта женщина, что красотою зовётся. Эта женщина, что искусством зовётся. Эта женщина, которая слегка на меня взглянула. Однажды слегка задела меня концом шали. Мне приснилось, что она слегка коснулась губами моих щёк. Я уже отдавал ей всего себя. Это было проще всего отдать. Уж это, наверное, ничего не стоило. По сравнению с ней - уж точно. Так вот я и отдавал.
И понимал, что ей этот бесценок ни к чему не нужен. И мирился со своей судьбой. И ждал её взгляда. Ждал, что она озарит меня своим лучом. Хотя бы немножко. Только пройди рядом, можешь даже не смотреть. Мы подберём за тобой всё то, что ты, не замечая, разбрасываешь. Ведь ты лучишься всеми талантами, счастьем, негой, чувством, радостью, желанием, жизнью. Ты обещаешь дыхание жизни. Нам только слегка затянуться. Нам этого хватит на жизнь. Мы будем несчастно жить, будучи счастливо отравлены знанием о Вашем существовании.
Красота. Полёт. Полёт души. Кто знает о нём хоть немного, тот уже неспокоен, отравлен. Кто хоть немного талантлив и может его иногда касаться - тому хуже. И чем чаще он это может, тем серее серость. Говорят, наркотики сжигают тебя, и ты без них не чувствуешь красок жизни. Алкоголь – так же. Полёт тоже выжигает. Не знаю, что. Может быть, саму душу. Эта зависимость сильнее.
Всё время лететь невозможно. Ты качаешься из состояния в состояние, ты тешишь себя надеждой, что когда-нибудь что-то установится, будет спокойствие. Но каждый раз, находя шаткое спокойствие, ты чувствуешь, как оно постепенно расшатывается, разбалтывается, и вот спокойствие превращаешься в обман. Лишь в видимость. Оно становится просто ширмой замалчивания, из-за которой всё отчётливее слышится крик невообразимой скуки, гулкой пустоты, стенки которой - твои натянутые нервы, они обострены и слышат всё, и каждой затяжкой папиросы подтягиваются к срыву.
Качнувшись, я упал со стула. Чёртовы качели. Вспышка, свет.
Что-то влетело в окно, разбив форточку. Засветилось, дунуло, пахнуло, створки разлетелись, а весь серый табачный дым вылетел прочь, неспособный бороться со стихией чистоты и красоты, словно вода в сливную трубу, стремительно и с шумом. Комнату наполнила белая шаль. Тонкие-тонкие бежевые одежды на обнажённом теле. Чуть слышались локоны, где-то вверху шали. Казалось, она брюнетка. Или русая. Да, русая. Она улыбается, хотя я не вижу её бледного лица с лёгким румянцем, но это самое доброе и прекрасное лицо. Её руки скользят по моим кнопкам печатной машинки. Она слышит каждое слово, что я написал. Она знает мой труд. И как я пытался, пусть ничего не вышло.
Она ласково застелила постель, наградила улыбкой и села.
- Пиши, я слушаю.
Я нервно схватился за папиросы, но она остановила жестом.
- Они тебе не нужны. Пиши. Я подарю тебе карандаш. Пиши им.
Шелест, шелест, ласковый шелест издавал этот карандаш. Я слышал позади её дыхание. Я в упоении писал. Страницу за страницей. Я не следил за ними, они падали со стола. Она их подбирала. Я знал, что не нужна ни редактура, ничего. Только слова. Они сами текли из моей головы в руку, в карандаш, и он изливал их, напевая шелестом о бумагу.
Я исписал, что можно. Карандаш почти иссяк. Я еле держал его. Наконец, я сломал деревянную оболочку и вынул гриф. Я писал им, сколько мог. Я исписал всё.
Кончился гриф. Остался последний лист. Запачканными графитом пальцами я вывел: 13.1903, и сбросил со стола. Лист проследовал на стопку.
- Твоя награда за месяц трудов. - сказала красота.
Я почувствовал негу. Я почувствовал тепло, мягкость, свежесть. Я слышал женское тепло, женский запах. Такой знакомый, такой родной, домашний. Я его знал, он отдавал добротой. "Ещё и покормят" - подумалось мне. Я ещё смотрел. Она взлетела. Взорвались вихрем шаль и все её тонкие белые одежды. И я окончательно провалился.
Когда я проснулся, серость была на месте. Табачный дым и кашель - тоже. Стёкла снова запылились, рамы почернели, свет солнца рассеивался в грязи окна. Я протёр глаза, приподнялся над подушкой, закурил и снова плюхнулся головой обратно. Я подумал о рукописи.
Хорошо, однако, когда твоя рукопись написана, когда она с тобой. Рукопись светится и греет. А в ней она, её свет, её сила. Это она подарила мне рукопись, а не я её написал. И серость уже вовсе не беспокоит. Красота заходила.
Я встал и подошёл к столу. На полу валялся карандаш. Листки лежали привычной стопкой. Но все они были пусты. Никакого света, никакой рукописи. Я начал лихорадочно искать её. Ящики стола были завалины старой писаниной. По углам тоже всё старая писанина. Ни следа рукописи.
Часа два я искал рукопись. Подумал, наконец, что её украла Зина. Она обиделась.
- Нешто, Фрол Федотыч, мы могли!
- Да кто мы-то? Алёшка твой?
- Я, Алёшка, бабка наша. Мы все не могли.
- А вот ты за себя только отвечай. А их я сам спрошу. Ишь, выгораживает.
Но Алёшка вряд ли мог взять. Деточка, школяр. Да вряд ли, у него пока ещё прописи в голове. А бабка ихняя не встаёт уже давно...
- Да мож ты, старая, продала их кому, листки-то печатные? Взъелась на меня за обеды-то? Зина меня кормит за даром, а тебе, небось, не нравится, что я не доплачиваю. Продала рукопись-то, а? Старая! Отвечай!
- Батюшка, помилуй. Я ничего. Ешь, сколько хочешь, да не кричи на старую. Бог с тобой. Я в рукописях не понимаю, милый, крепостной девкой была, выучили чуть читать, да больше руками работала.
Ну да, какая там рукопись ей. Да и они меня за образование-то моё уважают. Чтобы красть ещё у меня…
Я пошёл ходить по квартирантам. Я знал, что кто-то украл рукопись. Она светилась ярким светом. Кто-то увидел в окне свет, зашёл и не устоял. Я стал пробовать ласково с ними говорить, но ничего не добился.
Вдруг я понял. Конечно, это был Алёшка. А заварила кашу Зинка. Не специально, конечно. А было это так:
Она зашла, как обычно, позвать меня на обед. Но я трудился и даже не заметил её. Потом она, наверное, зашла ещё раз. Она видела, что у меня женщина, она видела, как я беспрестанно пишу уже. И много света, много-много света кругом, такого, словно жар-птица из конька-горбунка здесь сидит. Она, конечно, испугалась, но женское любопытство! И новая женщина в доме. А её никто ведь не видел, как она вошла!
Конечно, она пошла к Алёшке, сынишке, и рассказала ему всё. А тот ведь любопытный! Конечно, подглядел. Конечно, влюбился. Но при мне-то он не может ничего. И вот решил украсть рукопись-то. Чтоб, значит, шантажировать. Но ничего. Выследим, найдём!
Когда Алёша пришёл в дом, я выжидательно посмотрел на него в коридоре. Подмигнул ему, будто бы я что-то знаю. И будто бы он это знает. Чтоб он понял, что я всё знаю. Алёшка, конечно, сделал вид, что вовсе ничего не понимает, и поспешил уйти в кухню.
Я и там его настиг. Сел напротив за стол и стал пристально и строго смотреть на него. Алёшка притупил глаза и заёрзал на стуле. Немного беспомощно посмотрел на мать. Та тут же подсуетилась:
- Фрол Федотыч, будете? Не ели же!
- Грехи замаливаешь, Зина?!
Я постарался сказать это как можно внушительнее. Конечно, она была в курсе происходящего.
- Не понимаю я вашего учёного брата. А все мы грешны, это верно. Есть-то будете?
- Давай, Зина. Поедим.
- Как Вы себя чувствуете, ничего не болит?
Ага, на что это она намекает! Точно, она всё видела и в курсе. Я ничего не ответил. Зина стала делать вид, что занята обычными своими делами.
Обед прошёл в мучительном для Алёшки молчании. Мальчуган ёрзал на стуле под моим взглядом и старался как можно быстрее поесть. И правильно, будет ему уроком. Сейчас он не выдержит и сам мне вернёт рукопись. И точно, как только он доел, то стремглав вылетел из-за стола.
- Куда? А поблагодарить? Ну... Негодник! Садись за книжки, слышишь? Нет, Вы видели, Фрол Федотыч, совсем отбился от рук. Отца нет...
- Отбился, это точно, обманывает, чужое берёт!
- Да нешто! Что Вы такое говорите! Обидны слова Ваши! Ну, поели? Ступайте.
Я медленно вышел. Алёшка не возвращался с рукописью. Крепкий орешек. Держится ещё. Ничего. Я прошёл в хозяйские комнаты, постучался и просунул голову внутрь. В комнате за столом сидел Алёша. Я ему пригрозил пальцем и шепнул: рукопись!
Алёша резко отвернулся и сел, уставив неподвижный взгляд на свои книжки. Он сжимал свои маленькие кулачки и почти дрожал. Он не знал, что делать. Совсем не знал и просто ждал, когда всё это закончится. Я усмехнулся. Не долго продержится парень. Даже жаль стало.
С довольной улыбкой я прошёл к себе в комнаты, по дороге встретив Зину.
Через 10 минут Зина постучалась ко мне.
- Фрол Федотыч, какая рукопись? Алёшка весь в слезах. Как Вам не стыдно. Вы бы со мной сначала поговорили!
- Рукопись! Такая рукопись! А Вы не знаете, какая рукопись? Рукопись, что огнём полыхает, что греет лучше печки, что светится! Я писал, писал, я здесь столько писал! Украли! Позавидовали! Тоже хотите немного красоты?! А она была здесь, у меня. Увидели краем глаза и тоже захотели её себе? Да? Да? Спросите у Алёшки! Влюбился ваш Алёшка тоже! И украл рукопись!
Зинка в слёзы. Вот, дура-баба. Запричитала, что не мог он, родненький, что не так воспитывали. Не верила, что сын её на такое способен. Совсем не верила. Да я тоже не верил, но я знаю, что такое эта красота, какие она способна вещи вытворять с неокрепшими душами. Я сжалился над Зинкой, приласкал её.
Мы вместе пошли к Алёшке. Зинка всё ещё не верила. По дороге я её успокаивал и говорил, что это Алёшкиной тут нет вины. Такое сделаешь – и не подумаешь.
Алёша сидел и выводил прописи. Увидев меня, он задрожал, но старался не показать виду. Поднял голову, сел ровнее, но в глаза старался не смотреть.
- Алексей! - начал я.
- У меня нет рукописи! - запричитал он сразу - Нету, нету, нету!
Он перешёл на крик. Я подступил к нему, но он вскочил со стула и отбежал ближе к матери. Эта строптивость мне уже начала не нравиться. Я схватил его портфель и с остервенением вытряс всё содержимое. Рукописи не было. Зина обняла Алёшку и молча смотрела на происходящее. Я начал рыться в ящиках, скидывать всё со стола. Алёшка успокоился в объятиях матери и наблюдал. Они почему-то оба разом успокоились, и это раздражало меня ещё больше.
- Да вы все в сговоре! - закричал я и стал заглядывать во все места, куда мог, побежал в другую комнату.
Покончив с хозяйскими комнатами, я побежал по остальным. Мне никто не препятствовал. Чтобы я не ломал двери, Зина даже сама давала мне ключи. Я ничего не мог найти. Я не чувствовал ни тепла, ни света моей рукописи. Где она, где моя рукопись?! Кто украл её у меня! Этот лучик тепла и красоты! Почему вы так жестоки!
- Зина! - закричал я - Зина, это была рукопись, рождённая красотой и высшей любовью. Там были все сюжеты мира, там было всё обо всём сказано. Я знал всё и писал это. Это была книга любви и мудрости, книга жизни. Человек с ней мог пройти врата в новую светлую жизнь. Там свежий воздух, нет мрачности и папирос! Зина, отдайте, отдайте же мне её, умоляю. Вы ведь видели эту женщину, что ушла, когда я спал. Ведь видели свет в моей комнате, как всё вдруг стало чисто и прекрасно!
Я схватил её за руку и потащил в комнату.
- Вот же, вот здесь она сидела, на этом диване. А я писал.
- Фрол Федотыч. Никого не было. Я вчера зашла к Вам в комнату, когда услышала грохот. Вы упали со стула и, видимо, ударились. Словом, Вы потерял сознание. Вам надо больше есть и меньше курить! И я не видела никакой рукописи. Сядьте, сядьте на диван. Не было женщины, света. Я пыталась вас пробудить, но ничего не вышло. Я перетащила Вас на кровать, но вы схватили мою руку. Тогда я осталась сидеть с Вами какое-то время. А Вы спали.
Я тупо посмотрел на неё. Всё рухнуло. На свет навалился серый неподъёмный занавес, а пыль повисла в воздухе.
Вдруг я услышал знакомый запах. Такой знакомый, такой родной, домашний. Он откуда-то доносился. Мне его дарила красота! Да мне тут врут, наверное! Я взглянул на окно. В него светило яркое июньское солнце. Я воскликнул: красота! И вскочил, и со всего разбегу прыгнул в затворённое окно, вынеся телом раму, и тут же свалился на землю. О чём некоторое время жалел. Потому что мысли вдруг стали яснее. Первый этаж.
Я полежал некоторое время и подумал. Кажется, запахи-то были и правда знакомые.
Я угрюмо вернулся в свою комнату. Зина, обдав тем знакомым, женским, родным и домашним запахом из моего сна, мгновенно меня пожалела, а я на ней женился. «Ещё и покормят…» - пронеслось в моей голове. И больше никогда мне не пришлось работать. Я лишь сидел, отравленный сияньем настолько, что больше уже не имел никаких желаний, и безрадостно курил папиросы в тёплом углу на обочине жизни.