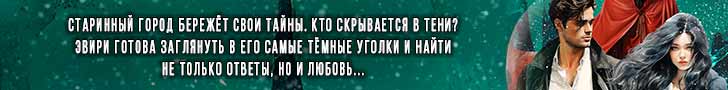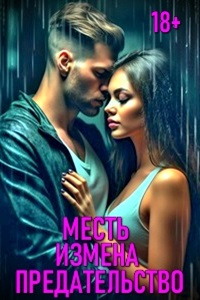С чистого листа, с новой строки
С чистого листа, с новой строки
Не поздно,
не рано,
не рано, не поздно…
Не завтра, не после,
а ровно тогда,
когда станет всё для тебя несерьёзно,
и сам ты захочешь уехать туда.
Ольга Алёнкина
На крутом бережке в низовьях реки, недалеко от устья притаилась крохотная деревушка, гордо именуемая посёлком, под романтическим названием Лабожское. Северные географические объекты в этих суровых краях имеют красивые поэтические имена.
Пределы здесь тихие, обильные на промысел: хватает и зверя с птицей, и рыбы речной да озёрной, грибов, ягоды пропасть. Однако основное занятие аборигенов – животноводство. Не они так решили – государство.
Есть в посёлке свой сепараторный цех, маслобойка. Молоко перерабатывают в масло и хранят в ледниках до прихода баржи, на которой привозят всё необходимое для производства и немногочисленного населения.
Нужного много чего: солярка, комбикорма, техника, продукты, мануфактура, носильные вещи.
Приход судёнышка – для всей деревни праздник.
Своей школы в посёлке нет, лишь младшие классы обучает старенькая учительница, да и то, не в школе, а в избе-читальне, которая по совместительству является клубом, библиотекой и кинотеатром.
Местное население называет это заведение киносарай.
Начиная с пятого класса, все детишки отправляются в интернат. Это отдельная песня: порядки в том заведении хуже, чем в армии: дедовщина на всех уровнях. Девчонки и мальчишки с малолетства познают азы очень взрослой жизни, о которой до поры знать-то не положено.
Все об этом ведают, но делают вид, что такого явления не существует в природе. А девчонок между тем с тринадцати лет знакомят с прелестями свободной любви, коим обучают их облечённые силой и опытом старшеклассники, которые там верховодят. Но, то присказка, не о них разговор, просто к слову пришлось.
Природа вокруг деревеньки сказочно красивая – лесотунда.
Местность испещрена разнокалиберными блюдцами озёр, вьющимися лентами рек и речушек. Между ними обширные пространства болот, редкие клочки перелесков. Зимой все это пространство однообразно белое, весной же раскрашено всех оттенков цветущим разнотравьем красоты необыкновенной.
Мешают радоваться красотами лишь стаи кровожадных комаров да мошек, которые парят над землёй зудящими стаями-одеялами.
Неопытного пришельца мошкара запросто способна заесть до смерти, но обычно без мази и накомарников охотников погулять по тундре не встречается.
Зверья и рыбы в этих благодатных краях не сосчитать: чего только не встретишь, прогулявшись в любую сторону с полчаса. Легче перечислить, кого не увидишь.
Рыбу ловят в основном в ручьях и озерах, рыбалка на реке считается браконьерством и сурово карается властями в лице инспекторов рыболовохотнадзора.
Выловил одну сёмгу – добро пожаловать на правилку в сельсовет, где назначат безжалостно штраф в размере многомесячной зарплаты, чтобы неповадно было государеву рыбу жрать.
Но эта мера касается исключительно местного населения: государства и его ревностных слуг запрет не касается.
Ближе к устью реки каждую весну устанавливают перекрытие: сплошную, от берега до берега металлическую сеть-ловушку, в которую сотнями тонн заплывает идущая на нерест сёмга, где и заканчивает свой жизненный цикл.
Для племенной рыбы существует лишь узкий проход, который целиком и полностью контролируют ихтиологи, изучающие выдающихся особей, ведущие “научный” подсчёт, а по сути – распределяющие бонусы.
Они же мониторят качество и здоровье поголовья, то есть, вроде и не истребляют, а занимаются рациональным природопользованием. О, как!
Однако, несмотря на декларацию разумности, на деле получается самое настоящее уничтожение экосистемы.
Как её не оптимизируй, а край всё равно рано или поздно настанет.
Кажется, что от природы можно взять чего и сколько захочешь. Дудки! Всё намного сложнее, чем способен осмыслить примитивный человеческий мозг, обременённый к тому же авантюризмом, корыстью и алчностью.
Скудеет помалу край, причём много быстрее, чем хотелось бы. Но это тоже рассуждения походя, просто душа неспокойна: невежественность просматривается во всём. До чего человек дотронулся – следом оскудение. Потому что берут много больше, чем требуется для выживания. Каждому хочется всего и побольше, а в том авантюрном направлении приближается неминуемое банкротство.
Местное население о том осведомлено, но тоже подвержено вирусу неумеренного потребления, потому заготавливают на зиму много больше, чем могут использовать. Не свое - не жалко.
Всё кругом колхозное – значит ничьё.
Вот в таком ключе, в таком разрезе и живут мои земляки.
По совести сказать – скудно живут, несмотря на огромные природные ресурсы, запасы и заготовки.
Деревня, други, для неё всё в нашем отечестве в последнюю очередь. Отрез ткани и то по разнарядке, не говоря уже о тех товарах, которые и в глаза никогда здесь не видели. Остаются и живут в тех краях те, кому податься некуда и энтузиасты, для которых природа – дом родной.
Но вторых – исчезающе мало.
Генка – слесарь и механик дизельной электростанции, которого за глаза звали Генка-механик, а официально и при встрече Геннадий Вениаминович. Причём каждый встречный и поперечный норовил перед ним шапку заломить да поклон пробить ниже пояса, несмотря на его молодые годы (Генке лишь недавно исполнилось двадцать пять), обжился в здешних краях крепко.
Для коренного населения его осёдлость в диковинку, поскольку никто из приезжих, тем более городских, дольше трёх положенных государством для отработки диплома лет не задерживался.
Генка осел на северной земле намертво: прирос, приспособился, даже умудрился извлечь немалый набор выгод. Такой уж у мОлодца характер: уживчивый, изворотливый, изобретательный, волевой и весёлый.
Руки у парня золотые. Человек он дотошный, аккуратный, в работе сноровист. Кроме работы по основной специальности Генка по выходным крутил кино, помогал, при оказии, чинить гусеничный транспорт и сельскохозяйственную технику. А попутно освоил тихое, но довольно объёмное временами производство самогона.
Варил хмельное зелье только для своих, проверенных временем. Не для наживы – по крайней сельской нужде: свадьбы, поминки, проводы, общественные мероприятия. Ну и для негласной оплаты некоторых услуг. Например, сёмужки прикупить на зиму у промысловиков да инспекторов.
Хотя на перекрытии на каждого рыбака два с четвертью милиционера, не считая тех, кто пасёт самих контролёров, голь на выдумки хитра: всё до мелочей продумано – у местного населения засолка из лосося в подвалах бочками припасена.
Генка потребитель особый – оптовый. Чего за деньги не купишь, то можно за горячительную смесь выменять: на государевом промысле сухой закон, а он втихаря бутлегерством подрабатывал с достойным прибытком.
По воде рыбу не провезти – поймают, могут и в тюрягу определить.
Генка на лошадёнке непроторенными тундровыми тропами привозил старателям первосортный первачок, а обратно транспортировал свежатину. Сёмужки заготавливал на всю зиму.
Рыбу он прятал от червивого глаза соглядатаев при погонах в тайном леднике. Здесь же кругом вечная мерзлота, только закопаться глубже надобно.
Генка зарыл металлический схрон недалеко от электростанции. Варил втихаря, ночами. Двухконтурный кессон определил на вечное поселение в мёрзлую заполярную землю.
Хранил в нём рыбу, ягоды и мясо круглый год.
#17219 в Проза
#8078 в Современная проза
романтика и любовь, от судьбы не уйдёшь, сложности любовных отношений
Отредактировано: 23.07.2023