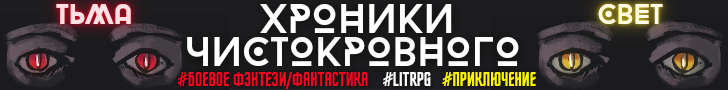Шедевр
Шедевр
— О несчастных и счастливых… о добре и зле… — немузыкально мурлыкал юноша, совсем не попадая в ноты, потирая нос с горбинкой деревянным кончиком кисти, испачканной темной краской, — о лютой ненависти и святой любви… Что творится, что творилось на твоей земле…
— Марик! Ма-а-арик!
— Мама, шо опять? Я же просил не трогать меня хотя бы один маленький часик!
— Не «шокай» на маму, шлимазл, шоб ты мине был здоров! Уже прошел час и три минуты! Ты долго тут будешь вонять своими красками? Я даже не слышу запаха борща, и ты его не слышишь, и тетя Фира, наша соседка, тоже не слышит. А уж когда Софа Фельдман готовит борщ, то вся Одесса знает. Ой, говорила тебе мама, поступай на врача! Сейчас сидел бы в белом халате в чистом кабинете, а твоя мама гордилась бы тобой обо всех соседях! Таки можно уже посмотреть, шо ты там себе намазюкал, халамыдник?
— Идите мама, смотрите уже… Марик говорил, шо сделает, Марик таки сделал! — Темноволосый юный художник тщательно вытер кисть тряпкой и начал оттирать руки, разглядывая картину.
Она мучила его уже давно, каждую ночь, не давая заснуть допоздна, и закончив, он думал, что его отпустит. Но чего-то в ней не хватало, хотя в целом удовольствие и гордость от сделанного присутствовали. Какая-то незавершенность муляла Марику, заставляя разглядывать картину под разными углами. Замершие на секунду ангельская и демонская руки, как заправские азартные кукловоды, вот-вот отправят своих подопечных, сталкивая их на бесконечной призрачной шахматной доске: ангел придерживал своего воина — девушку в светящихся белых шелковых полосках одежды — за крылья, а когтистая рука демона уже почти отпустила аппетитную девицу с черными кожистыми крыльями. И не хватало толчка, мысли, мазка, чтобы все пришло в действие…
— Марик, ты делаешь маме больно! Оставь мине жить! Хто так рисует? Ну хто так рисует? Эту худую белую шиксу у тибе нихто не купит, и шо мы будем делать? — Мадам Фельдман схватилась за сердце, кладя обе руки на необъятную грудь.
— Я художник, мама! Я так вижу! — возмутился худосочный Марик, хмуря широкие кустистые брови. — И заберите Барсика, у меня еще краски не высохли!
— Шмудожник! — отбрила мадам Фельдман, беря на руки рыжего толстого кота. — Твой дядя Яша — вот это художник! Он даже в тюрме так рисует купюры, шо милиция не отличает! Ой-вэй! Хорошо, шо твой папа умер и не видит это несчастье, а то бы он умер еще раз! И шо, тебе краски не хватило дорисовать этой селедке грудь, как у тети Розы, и таки добавить немного тухеса? Ой, такие дорогие краски, а ты их не туда мажешь! — горестно качала она головой.
— Мама! Перестаньте мокнуть нос! Оденьте глаза на лицо! Тут главное — борьба, а не формы. Вот представьте, что эта, в белом, — вы, а вот эта, с сиреневыми волосами, — тетя Песя с Привоза, которая никак не хочет вам уступать бичка по хорошей цене!
— Таки где я и где эта белая селедка? — огладила сочные бока Софа, с сомнением разглядывая творчество сына. — Хотя тетя Песя таки ведьма, ты прав, сыночка!
В открытое окно сквозь бархатный голос Тамары Гвердцители «Виват, король, виват» из кассетного магнитофона «Весна» дяди Толика с третьего этажа зазывно донеслось:
— Марик! Марик!
— Сёма? — налегла на узкий подоконник необъятной грудью мадам Фельдман. — Замолчи свой рот! Шо ты тут забыл, адиёт? Иди сделай так, шоб я тебя искала!
— А позовите Марика! — Рыжий конопатый Сёма в майке-алкоголичке стоял под деревом, засунув руки в карманы широких красных шорт, покачиваясь с мыска на пятку.
— Лови ушами моих слов: на тебе дулю, купи на нее трактор, а на сдачу застрелись. Мой Марик будет дружить с Моше, а не с тобой. Иди откуда пришел.
— Тетя Софа! Ну я ж уже извинился за то битое стекло, шо вы такая злопамятная?
— Иди купи селедку и морочь голову ей! Марик не выйдет! — Голос Софы изменился на теплый и воркующий без перехода: — Самуил Маркович! А не хотите ли пройтись в гости?
— А где случилось? — поинтересовался скрипучий старческий голос с долей любопытства.
— Мой шлимазл сделал шыдевру! Ви мине нужны как творческая личность.
— Ну мама! — Марик протестующе зашипел. — Самуил Маркович всю жизнь играл на трубе на похоронах, шо он понимает за картины?
— Молчи уже, халамыдник! Пятьдесят лет быть при музыке — это не кот чихнул! Он таки много красивых похорон рассмотрел! А свадьбы?! Шо он видел, тебе еще мечтать и мечтать!
Старый одесский дворик лета восемьдесят девятого года, пропитанный солнцем и морским воздухом, криками детей и чаек, которые иногда было совсем не отличить, жил своей размеренной жизнью. Сёма ждал Марика, лузгая семечки, Самуил Маркович не торопясь поднимался на второй этаж, чтобы составить свое профессиональное мнение о мазне этого молодого художника, а Марик нервно разглядывал картину.
Он постарался выразить всю внутреннюю борьбу в этой красивой и одновременно пугающей картине противостояния и чувствовал, что старшее поколение со своими мелкими меркантильными проблемами, где купить бичка подешевле и достать шикарный импортный ковер, его не поймет. Если даже друг детства Сёмка не всегда понимал его тонкую мечущуюся душу и вечный поиск красоты и смысла жизни… Личные демоны, терзающие его внутри, побеждали гораздо чаще ангелов, и он попытался отразить это в своей картине, хотя бы так борясь с темными мыслями.
— И шо вже ты таки изобразил? — степенно подойдя к мольберту, заинтересованно уставился выцветшими голубыми глазами семидесятилетний одессит, отодвигая ногой рыжего кота, отиравшегося о его штанину толстой мордой.
— А вы шо видите, Самуил Маркович? — шмыгая носом, вопросом на вопрос ответило юное дарование, наклонившись и погладив Барсика.
— О! — поднял полусогнутый старческий палец указующим перстом пенсионер музыкального жанра. — Таки шо-то тут есть!
— Ой, шобы ви видели, почем просят за эти краски, то ви бы точно знали, шо тут есть виброшенные грóши! — вздохнула за его спиной Софа. — И шо скажете как мудрый человек?
Отредактировано: 30.11.2020