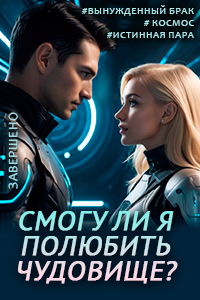Шрамы и лебеди
3. Танцуй, скучный Лондон
Она плясала посредине зала ожидания. Люди чаще всего, прежде чем что-то сделать, задумываются. К чему это приведет, как я это сделаю, хватит ли сил, достаточно ли я готов, как буду выглядеть, что обо мне подумают. Люди задумываются – и так ни на что и не решаются.
Я сам таким бываю. И чем взрослее, тем задумчивее. Как-то жаль себя. Жаль отдавать сердце тем, кто задумается и будет несколько дней, месяцев, лет вертеть твое живое пульсирующее сердце в руках, не в силах решиться хоть на что-то. Будут таскать его в кошельке в отделении для мелочи или просто в кармане, облепленное сохраненными за какой-то надобностью счастливыми билетиками, крошками от раздавленных сушек и несбывшимися мечтами. Потому что за каждой такой мечтой стоит нерешительность и страх – а что подумают другие, если я это сделаю.
Только счастье не в билетиках.
Она танцевала посреди зала ожидания, легко ступая грязными босыми ногами по холодному кафелю. Волосы ее летели веером, захлестывали руки. Она была счастлива.
У нее не было кошелька, в широких полосатых шароварах не было карманов. Ничто не мешало ей кружиться и хохотать. Она была счастлива.
На полу лежал брошенный кое-как мешок, сшитый из пестрых лоскутков чьих-то строгих костюмов. Она не потрудилась его открыть, и прохожие склонялись, чтобы положить монеты или мятые купюры на ее сумку. Монеты катились по полу ей под ноги, и отлетали со звоном, раскатывались под кресла, прятались под чемоданами на колесиках.
Она танцевала почти бесшумно. Ни серег, ни колец, только плетеные нитяные феньки до локтя. Звенели только монеты и ее смех.
– Для вас, уважаемые уезжающие и приезжающие, сегодня, восьмого июня, день недели и год не важно какие, танцевала солистка большого вольного театра танца души Марина Мэй Цветкова. В качестве благодарности администрация вольного театра просит вас сделать лица попроще и улыбаться!
Она раскланялась на все четыре стороны, сгребла с мешка мелочь и, оставив его валяться посреди зала, отправилась к кассам, неся в горсти деньги.
Я пошел за ней. Любопытно стало, что она намерена сделать.
Солистка вольного театра высыпала монеты и купюры в лоток кассы и весело спросила:
– Здравствуйте, подскажите, куда я могу доехать?
Видимо, ее энтузиазм не встретил понимания. Кассир бурчала что-то в переговорное устройство, но девушка уже вспылила, обозвала тетку за стеклом унылой коровой и развернулась, чтобы уйти.
– Женщина, деньги заберите! – грозно подступил к ней полицейский. Она, скорчив гримасу, выгребла из лотка свой гонорар, выскочив за дверь, ссыпала в шапку старику-попрошайке. Села на скамейку, подперев голову рукой.
– … отправляется через пять минут с третьего пути.
Я просто гулял по городу и зашел на вокзал. Мне некуда было спешить. Мне даже жить было особо незачем. У меня были последние в универе каникулы, на которые я ничего не планировал. Мне было одиноко и адски скучно.
Я подошел к кассе, той самой, где тетка не пожелала продать девушке в полосатых штанах билет «на все».
– Дайте билет на ближайший.
– Куда?
– На тот, который через пять минут с третьего пути.
– Психов развелось. Дома не сидится.
Но у меня, в отличие от вольной артистки, был кошелек, более-менее вменяемый вид и паспорт.
Я не стал садиться на свое место. Мы поболтали с водителем. Он оказался неплохим парнем, отцом двоих детей и обладателем язвы двенадцатиперстной кишки.
Это странная штука. Что-то вроде суперспособности. Совершенно незнакомые люди то и дело принимаются рассказывать мне о себе. А мне нравится слушать.
Если уметь слушать и вовремя включить воображение, можно прожить тысячи жизней. Главное, впустить их в себя, почувствовать их боль, страх, любовь, надежду, отчаяние…
Она шла вдоль дороги, закинув на плечи свой мешок. Босые ноги мелькали.
Я попросил водителя остановить, сунув ему в руку пару купюр. Он понимающе кивнул.
– Садись, артистка!
Она обернулась, удивленно подняла брови.
– Ты же хотела куда-нибудь ехать.
– Залазь в автобус, пока не штрафанули, – весомо добавил водила.
– А куда он идет?
– Куда-нибудь.
Мне отчего-то было дико весело от ее удивления.
– Марина Мэй Цветкова, ты едешь или пёс с тобой?
У меня за спиной недовольно бормотала какая-то женщина. Обещала водителю написать жалобу на то, что подбирает по дороге каких-то бомжей.
– Сама ты бомж, старая курица, – с широкой улыбкой сообщила тетке Мэй, проходя вглубь салона, где были свободные места.
Название города, в который мы приехали, я так и не запомнил. Меня охватило странное ощущение эйфории. Мы бродили по городу. Марина танцевала. Потом нам пришлось рвануть от полицейского патруля запутанными дворами, и Мэй подвернула ногу.
Какой-то сердобольный дальнобой подобрал нас у дороги и подвез почти до моего дома.
Мне осталось только внести ее на руках на пятый этаж и перенести через порог. После чего Мэй волшебный образом выздоровела и, сбросив посреди гостиной свои полосатые необъемные штаны, упорхнула в душ.
Я не любил ее. Ни тогда, ни потом. Может, я еще не был к этому готов. Может – время мое еще не настало, но что-то внутри меня привязалось к ней. Как привязываются к своенравным кошкам.
Я не любил ее, но мне нравился тот я, каким она меня делала.
Мне нравилось, как она сворачивалась у меня на коленях вечером, отвлекая от фильма.
– Почитай мне, Лондон. Что-нибудь, чего я не понимаю.
Это был странный ритуал. Я брал с полки Картасара или Паланика, и читал, пока она выгибалась на ковре, как длинный английский лук, до звона растягивая и без того безупречно послушные мышцы.
#93950 в Любовные романы
#21820 в Короткий любовный роман
#40402 в Разное
#4663 в Развитие личности
Отредактировано: 07.04.2017