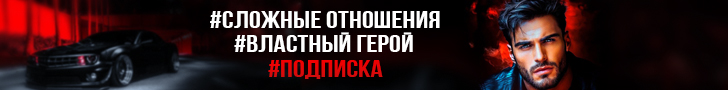Сквозь пальцы
Сквозь пальцы
Я музыкант и предан музыке – мне так сказали. Я сижу в прошитой плесенью подсобке и играю на гитаре. Вокруг меня полотном растянулся слепой туман и аккуратно щекочет полы пиджака и торчащие из штанин нитки. Сонная моль неспеша наслаждается моим шелковым серым галстуком. Воздух в аудитории сухой и тяжелый. При вдохе он проникает щиплющей горечью в мягкое небо и корень языка. Наигрываемая мною мелодия незатейливая и заунывная, а гитара звучит так, словно бы у нее анемия. Мда, досадная картина. Зато струны ослепительно блестят! А гриф такой гладкий и прямой!.. Ох, вы бы видели. Внешний вид гитары совершенно не порицаем и мигом крадет все внимание случайного или нарочного наблюдателя. Так что всю убогость нищего звука берут на себя мои терпеливые уши.
В подсобку заходит Наставник, хлопая дверью. Звук металлический, неприятный, будто бы закрыли огромную клетку. Странно: насколько я помню, в Консерватории везде стоят деревянные двери. Наставник ставит рядом со мной горшочек с едой, которой та даже не пытается казаться и, не скрывая свои прелести, смело штурмует воздух ароматами гнилья и тухлятины. Из раза в раз одно и то же, а привыкнуть никак не могу. К сожалению, запах не обманчив, и на вкус это также отвратительно. А жуется, как резина, облепленная глиной.
Помнится, однажды я попробовал воспротивиться такой специфической пище на одном из групповых занятий, заявив при других послушниках, кхм, студентах Консерватории, что это какое-то омерзительное гастрономическое извращение, а не еда. Сокурсники только смущенно покосились на меня, не понимая, зачем я говорю правду. А Наставник осадил мой маленький бунт, сказав, что оскорбительное определение, коим я пожелал описать заботу Консерватории о своих подопечных, является нелепым проявлением моего инфантильного восприятия мира, и что мне уже давно пора повзрослеть. Он также отметил, что остальные в Консерватории с удовольствием едят все, чем их кормят, и не капризничают. Тогда мои сокурсники неуверенно покосились на Наставника, не понимая, почему они не могут сказать правду. А мне пришлось столкнуться с таким чувством стыда, какое невозможно охарактеризовать никаким тоном красного лица. Я чуть не расплакался. С тех пор ни в чем возражений или недовольства не выказываю. Еда дрянь, да. Но если все едят, как я могу отказаться? Музыкант, как человек искусства, должен быть порядочным.
Лампа в подсобке, праздно покачиваясь, холодным светом оглядывает Наставника. Он встает напротив меня и скрещивает руки на груди. Упершись в меня сквозным взглядом, Наставник молча раздувает свои широкие ноздри. Так проходит минуты две или три. Затем, глубоко вздохнув, он наконец решается говорить: «Дорогой студент, нам грозит, гх, к нам пришла страшная беда. В наши дни музыку все меньше ценят и уважают, гх, ее унижают и втаптывают в грязь, ею пренебрегают, гх, – он то и дело бодался кулаком со ртом, пытаясь сдержать кашель, – а на нас, музыкантов, плюют и смотрят с отвращением. Так не могло продолжаться вечно, гх, ситуация накалилась, и теперь над нашим храмом музыки нависла страшная опасность. Ужасающий, гх, неописуемый враг подло подкрался к нам, окружил нас, чтобы вцепиться в нашу глотку, гх. Люди, жестокие и злые, люди… гх, да что там люди, настоящие чудовища! Хотят погубить нас, изничтожить! Им неведом страх, им неведомо милосердие, они невежественные и дикие. Гх, гх…» Наставник замолкает, тускловатый румянец на моих щеках смазывается бледными разводами. Я ощущаю, как под моей кожей растекается подавленность. Пока Наставник с каким-то неясным для меня довольством жует зубами губы, я пытаюсь собрать в кучу растекшиеся по извилинам мысли. «Наступают тяжелые времена, – продолжает он очень твердым голосом, – времена лишений, гх. Они требуют от нас быстрой реакции, жестких мер и отчаянных жертв, поэтому!..» Наставник достает из-за пояса большой секатор, вытягивает его вверх и застывает. Моль, зацепившаяся лапкой за край проеденной ею прорехи на галстуке, соскальзывает и плюхается мне на ногу. Наставник разражается хохотом и начинает щебетать, возбужденно притопывая: «Ха-ха-ха, чудовища! чудовища! конечно, чудовища, гх! Ты взгляни, какой острый, а в руках как удобно лежит, – он протянул секатор к моему носу, – Чудно, гх!». Радостно мыча, Наставник что-то напевает себе под нос и жадно облизывается. Спустя минуту он вдруг замирает, кладет мне руки на плечи и доверительно изливает на меня кисель из тягучих слов: «Я совершенно убежден в том, что ты стойко преодолеешь каждый страшный миг, гх, надвигающейся бури. Ради Консерватории, ради музыки, ради себя, гх, в конце концов.» Он протягивает секатор к моим пальцам, бегущим по струнам заученным перебором, случайно прихрюкивает носом и отрезает мне мизинец. Безумно больно. Смотрю испугано в его глаза – Наставник пристально таращится на меня, зрачки затвердели. «Терпи, дорогой, терпи.» – тихо говорит он мне. Я сглатываю ошалевшую от происходящего слюну и пытаюсь понять, что мне нужно понять. Наставник не выглядит злым и взбешенным, наоборот он с большой заинтересованностью вглядывается в меня. Возможно, так он проверяет мою стойкость, а может, такие действия предусматривают его должностные полномочия. Как сказал Наставник, тяжелые времена требуют жестких мер, а я в жестких мерах не много смыслю. Видимо, так они и выглядят – жесткие меры. Или же это отчаянные жертвы? Да, в невежестве я не далеко ушел от наших незримых врагов. Но паниковать определенно не стоит. Мизинец в переборе все равно не участвует, а боль пройдет. Время все исправит, главное делать то же, что и всегда. Мелодию незачем прерывать. Наставник слегка сжимает рукой мое плечо и одобрительно кивает. Тут же он отрезает большой палец на левой кисти. Познанная секундами ранее боль рассвирепевшим дублем бьет по нервам. Я с грустью смотрю на то, как часть меня глухо плямкает о дощатый пол и вяло сцеживает из себя оставшиеся соки. Теперь будет труднее зажимать лады.
Отредактировано: 18.11.2023