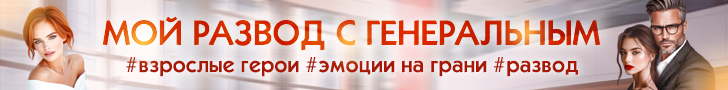Слово
Слово
СЛОВО
Конец апреля выдался в Москве не просто теплым, но удивительно солнечным и сухим. Обласканная утренними лучами света, молодая листва накрыла бульвар лёгким и ажурным берёзовым покрывалом. Щебетание ещё не многочисленных мелких птичек то и дело рассыпалось вокруг звонкими мелодичными капельками, совсем не нарушая хрупкую тишину раннего утра.
До начала встречи, на которую мы с Софией направлялись, оставалось ещё около получаса, и спешить не было нужды.
- В детстве, - тихо заговорила моя спутница, - я больше всего любила лето, а с годами все острее стала чувствовать ни с чем не сравнимое очарование весны. Да это и не удивительно, ведь что может быть прекрасней, чем молодость и возрождение!
Ты сегодня, кстати, именно о Ренессансе собирался рассуждать, насколько я поняла?
- Ну да, о прекрасном и чистом детстве новой эпохи, которая, к сожалению, не только повзрослела, но изменилась до неузнаваемости. А вот, кстати, и молодость человеческая в этом мире возрождающейся природы!
Я кивнул в сторону появившейся в глубине березовой аллеи стайки старшеклассников или, может быть, уже студентов. Две девушки и три парня в ярких современных одеждах о чем-то спорили и громко смеялись. Мгновенно расколов хрустальный храм тишины, которым мы только что наслаждались, молодежь весело приближалась.
- А ведь когда-то мы были такими же, - с лёгкой грустью произнесла София, - веселыми и беззаботными.
- Ну, знаешь, я на твоём месте сказал бы «совсем недавно». От силы-то лет десять прошло.
Не ответив мне, София поглядывала на компанию, которая была уже совсем близко.
- Красивые! Как...
Она ещё что-то хотела сказать, глядя на очаровательную курносую девчушку с пышными рыжими волосами и забавными веснушками, от которых, наверное, не один рыцарь тихо сходил с ума. Но слово испуганно замерло, так и оставшись на кончике языка моей попутчицы. Вздрогнув и даже отшатнувшись, как от неожиданной пощечины, незаслуженной и необъяснимой и оттого особенно болезненной и обидной, София прикрыла рот рукой и замерла, не в силах, кажется, поверить, что громко и вызывающе прозвучавшее матерное слово произнесла эта... девочка.
Молодежь быстро удалялась, продолжая громко смеяться и заставляя нас то и дело вздрагивать, словно опасаясь выстрела в спину.
София отпустила мою руку, в которую только-что судорожно вцепилась, и вынув из сумочки платок промокнула вдруг покрасневшие глаза.
Рядом оказалась удобная парковая скамья, залитая ярким светом, и мы не сговариваясь опустились на теплую деревянную поверхность. Ещё пару минут оба сидели молча, безуспешно пытаясь вернуть ощущение чистоты и свежести, которое было только-что безжалостно уничтожено.
- Больно! - Вдруг с чувством проговорила София, - И очень жаль эту девочку. Она показалась такой милой и хорошей, а теперь я никак не могу избавиться от чувства брезгливости, которое вызывает её лицо и весь её вид.
- А почему ты сказала «больно»? Что ты имела в виду?
- Ну, как же! Пять минут назад в моем сознании поселилась очаровательная девчонка с веснушками. Она уже начала там устраиваться, обнаруживая замечательные человеческие качества и готовясь превратиться в мою подругу, в героиню рассказа или повести. И вдруг, эта новая часть моего внутреннего мира, зреющая частичка моего «я» оказалась уничтоженной или, что то же самое, превратилась в монстра. Меня ранили! Понимаешь? И, естественно, мне стало больно.
Конечно, я совсем не знаю эту особу, почти не знаю, но я очень хорошо знаю, какой замечательный образ в моём сознании она только что уничтожила, и этого я уже не смогу ей простить.
Нахмурившись и нахохлившись София замолчала. Так она сидела несколько минут, спрятав нос в шарфик и глядя перед собой. Погрузившись в какие-то свои переживания, она не выказывала желания говорить и я тоже молчал.
Случившееся на бульваре само по себе не было чем-то неожиданным для московских улиц. Использование ненормативной лексики стало для нового поколения делом обычным и малозначительным. Нам же, старшим, оставалось лишь вздрагивать, порой краснеть и пытаться разобраться с причиной этой удушливой пошлости, походя пожирающей как чистую и очаровательную девичью стыдливость, так и мужское благородство. Или может быть всё не так трагично? Ведь дети, научившись этим речевым изыскам, едва ли впитали всю тяжесть их смысло-чувственного содержания, и мне лишь кажется, что они отдают себе отчёт в том, что произносят.
Не впервые размышляя на эту тему, я прекрасно понимал, что язык слишком однозначно свидетельствует о состоянии внутреннего мира говоривших, чтобы можно было усомниться в недостатке их культурного развития. Прежде, все эти грубые психофизиологизмы представлялись мне голосом зверя из глубин природного прошлого, выплесками первобытной чувственности, которые у зрелых людей случаются в стрессовом состоянии. Однако такое объяснение не выдерживало элементарного испытания жизнью. Во-первых, далеко не все люди даже в самых крайних ситуациях используют подобные выражения. Во-вторых, многие сегодня используют мат чуть ли не постоянно, как уже привычную форму речи. Всё это требовало объяснения, и произошедшее было хорошим поводом ещё раз задуматься, а может и обсудить этот непростой вопрос.
София вдруг зашевелилась, несколько раз глубоко вздохнула и, вернув лицу обычное чуть лукавое выражение, решительно поднялась со словами: