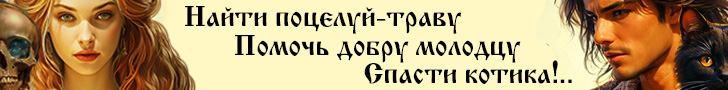Смерть Золушки
Смерть Золушки
Внуков,
чей путь ещё даже не начат,
незаменимые бабушки нянчат
Роберт Рождественский «О незаменимых»
Вы никогда не задумывались над тем, с какого возраста стали осознавать себя? Я пыталась припомнить и поначалу не смогла. Но зато потом ко мне стали приходить зыбкие воспоминания – не чётко нарисованные картинки, а как бы еле уловимый след, непроявленные ощущения, или даже только их тень. То мнилось, что я лежу в коляске, завёрнута, как куколка бабочки, и колясочная крыша надо мной закрывает полнеба. Коляску баюкает всесильная ласковая рука, а погремушки, нанизанные на резинку, тихо потренькивают в такт покачивания. В воздухе столпотворение острых мартовских ароматов. Временами солнышко припекает сильнее и мне становится невыносимо жарко. Я начинаю сопротивляться произволу рабских пут, ворочаюсь, недовольно кряхтя. Но не реву во весь голос, прекрасно понимая, что тогда прогулке конец. Мне удаётся ослабить давление пеленальной неволи, становится чуть прохладнее, и я блаженно засыпаю, глодая пустышку, что успокаивает и даёт обманное ощущение насыщения.
То вспыхивает вдруг в памяти дорога в общественную баню. Бабушка везёт меня на санках по грязному комковатому спрессованному снегу меж деревянных домов частного сектора. Баня – это вообще особенный мир. Сначала нужно смиренно сидеть в тёмном предбаннике в очереди. Мужчины заходят в одну дверь, а женщины в другую. Я не понимаю, зачем им разлучаться. Из приоткрытой двери валит пар, наполняя морозный воздух предбанника смесью из запахов мыла, хлорки, распаренных берёзовых веников. Зайдя в заветную дверь, следует отдать копейки старушке, похожей на крысёнка. Из раздевалки с множеством кабинок, как в «детсаде», в котором работала моя бабуля, должно, взяв серые страшные тазы, проходить в помывочную, и только оттуда можно попасть в парную – сущий ад. Мы не брали общественные тазы, а ходили со своими, большими эмалированными. Прежде чем налить воду для мытья, бабушка всегда ополаскивала тазики горячей водой.
Для меня было предназначено всё только самое-самое красивое: новенький оранжевый тазик – мне, а бабуле простенький с отбитым краем. Моё полотенце розовое пушистое и такое огромное, что можно с головой завернуться, а бабулино – обычное вафельное. Спала я исключительно на крахмальных кипельно-белых простынях. Пододеяльники приметные: вдоль всего полотна вывязанные крючком кружевные полосы. Бабушка гордилась своим бельём: «У Фёдорихи простынки-то – застиранные, а наши глянешь – слепит, аж глазам больно!»
Я лишь теперь стала задумываться, каким неимоверным трудом достигалась это красота. Ледяную воду возить надо было из колонки. Выварку с бельём кипятили на русской печке. Помню, как маленькая худенькая бабуля поднимала тяжеленную бочкообразную выварку на высокую печь в три этапа. Сначала поставит на маленький стульчик, затем на большой. Потом рывок штангиста, и последняя высота – печь, на открытую «коМфорку», на голый огонь. Сколько же «люминевых» детских ванночек воды необходимо было сменить, чтобы выполоскать наструганное хозяйственное мыло и персоль, да прокрахмалить неподъёмные мокрые пододеяльники.
В процессе задействованы первобытные орудия труда: ребристая доска на которой, как на тёрке натирают мокрые простыни и две палки. Маленькая – весло для того чтобы «шурудить» кипящую бельевую гущу. Длинная – мачта, что служит опорой для поддержки отягощённой пудовыми тканями верёвки.
Сушилось бельё обязательно на улице. Никакие свирепые сибирские морозы с леденящим ветром не могли воспрепятствовать моей героической Золушке вывесить белоснежные паруса. Помню красные, обожжённые морозом, маленькие натруженные ручки, что заносят закостеневшие на холоде полотна, которые в контрасте с невысоким бабушкиным ростом кажутся огромными. Улыбающееся круглое, словно детское, личико, осиянное васильковым счастливым светом. И запах свежего огурца и сладкого дыма от промороженной ткани, что врывается в натопленную кухню вместе с уличными холодными клубами.
«В горячей-то водичке состирнуть – это ж РАЙ!» – не раз впоследствии говорила мне бабушка, укоряя за устойчивую нелюбовь к постирушкам. На что мы с сестрой подтрунивали в ответ:
– Бабуль, у тебя какое хобби? Половички стирать?
– Э-эх, вас бы в моё детство. Мыла вообще не было, стирали золой. Полоскали в проруби. Руки бывалча от ледяной воды аж заломит.
Самой большой радостью в детстве было для нас с сестрёнкой засыпать вместе с бабушкой. Удивительное сладостное состояние покоя, защищённости, и изливающейся абсолютной доброты, никогда более во взрослой жизни недостижимое. Хотя «засыпали» мы очень плохо, а больше хохотали, пока растревоженный шумом и обделённый вниманием дедушка не начинал из своей маленькой комнатки призывать нас к тишине. Смеялись как сумасшедшие над незатейливой бабушкиной сказкой про умного козла, или над тем, как она начинала изображать сварливых соседок, а больше всего любили затаив дыхание слушать воспоминания из детства «про деревню».
Лишь со временем начинаю осознавать, да что она вообще могла помнить из своего детства? Ведь увезла её мама из родного села в девятилетнем возрасте. Раскулаченная вдова с шестью детьми бежала от ссылки в город. Да и скоро сгорела там от воспаления лёгких на казённой больничной койке. Моя бабушка была самая младшая в семье. Старшие братья пошли работать в депо, девочек отдали «в няньки», так назывался особый вид прислуги, более похожий на крепостное право.