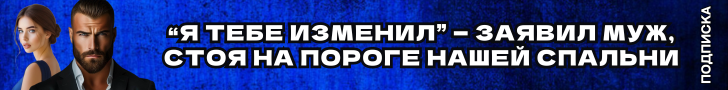Социальная дистанция
Социальная дистанция
Вы не представляете, как сложно ухаживать за кожей, когда она отслаивается от любого неосторожного движения. Когда пальцы не слушаются, и никак не открутить элементарную крышку тюбика с кремом. Иногда я прихожу в отчаяние.
Но я должна продолжать, ради сына. Собраться — во всех смыслах. Взять себя в руки, иногда буквально. Обожаю маникюр, душу бы отдала за возможность не то что посетить мастера — никто не решится подойти ко мне близко, — но хотя бы просто открыть флакон и накрасить ногти! Но этого никогда уже не будет. Чертовы ногти то и дело отваливаются, остаются везде, как маленький символ моей разваливающейся на части жизни. Зубы тоже. При виде грязно-жёлтых кусочков меня, валяющихся на полу, хочется плакать, но и этого я больше не могу. Словно разучилась.
Однако я обязана жить, ради Славика. Долгими, тягучими ночами я не сплю — думаю, как он будет в этом новом мире. Я не смогу вечно быть рядом и направлять его. Сколько мне осталось? Год, два, пять? Может, и вовсе пара месяцев. А он такой импульсивный... Да и каким быть ребёнку в восемь лет? Он не понимает, что происходит. С другой стороны, у детей психика более гибкая, может, он приспособится к переменам лучше моего.
Но сейчас Славика расстраивает, что незаразившиеся люди боятся нас. Он такой дружелюбный, к тому же любопытный — но они в страхе отскакивают, а то и убегают. Он считает это игрой, бежит за ними, смеётся… Раньше, пока я была бессознательной, не замечала изменений, а теперь уже вижу и понимаю: что Славик прихрамывает на сломанную ногу, что его милая прежде улыбка похожа на оскал, а изо рта то и дело подтекает тёмная жижа.
Противно говорить это, тем более о собственном сыне, но я понимаю, почему люди боятся нас и избегают. Когда у меня получается сфокусировать взгляд на отражении в зеркале, там тоже приятного мало. Я, которая после любой вечеринки находила силы смыть макияж и вбухала столько денег в косметические процедуры, теперь выгляжу отвратительно.
Прощайте, гладкие волосы и всегда уложенная причёска. Эти пучки тусклой пакли, что ещё остались у меня на голове, и волосами-то не назовёшь. Жирные, слипшиеся от грязи. И, словно этого мало, они продолжают расти, из-за чего стрижка — остаток прежней жизни — с каждым днём всё больше теряет форму.
Недавно попросила Вику расчесать меня, но когда увидела, что волосы остаются в её руках целыми прядями, сбежала в ужасе и неделю пряталась ото всех в дальнем углу амбара. Не хочу, чтобы меня видели такой. Но против голода не пойдёшь, в итоге пришла за едой. У кормушки был новый волонтёр, красавчик, я по привычке кокетливо улыбнулась, а он вздрогнул и отвёл глаза. Никак не могу привыкнуть, что теперь всё по-другому.
Зато как он смотрел на Вику… Улыбались друг другу… Я хоть и делала вид, что сосредоточена на еде, но всё подмечала. Нет, конечно, я Вику люблю, она моя лучшая подруга, но, сказать честно, она ведь средненькая. Раньше она бы со мной не сравнилась! Чёртов мир наизнанку! Ни тебе трендовых вещей, ни грамотно подобранных луков — сейчас, чтобы считаться красивой, достаточно всего лишь быть здоровой.
А я ведь всегда следила за собой! Сбалансированное питание, дорогие витамины, фитнес дважды в неделю, чуть что — к платному врачу… Делала всё — всё! — чтобы жить долго и счастливо. Казалось бы, что может пойти не так? А вот, какая-то тупая эпидемия взяла и разрушила мою жизнь. Бесит! Ведь никто даже не верил, что это серьёзно, Влад смеялся: журналистам нужно придумать что-то более оригинальное, чем зомбаки из второсортных ужастиков. Мол, за версту видно подделку: грим дешёвый, отслаивающаяся кожа из ПВА сделана.
Я тоже сначала не могла поверить. Всё пыталась ущипнуть себя, чтобы проснуться, — пока ноготь на большом пальце не отвалился. Но и после этого я просто смотрела на него, отказываясь принять, что он мой, что это моё тело гниёт и разваливается на куски.
Сейчас уже лучше: в нашем ангаре кондиционеры охлаждают воздух, чтобы задержать разрушение тел, волонтёры регулярно приносят еду, новичкам ещё дают витамины, чтобы они быстрее осознали себя. Не знаю, насколько это помогает. Наверное, никто не знает, просто надо же что-то делать.
Волонтёры ещё и разговаривают с нами — терпеливо, медленно, чётко проговаривая слова. Я уже хорошо их понимаю. Унизительно, конечно, что нас держат в загонах и клетках, которые раньше использовали для скота, и учат речи, будто малышей в яслях, но сейчас всё равно лучше, чем было в начале: бесконечный, изматывающий голод, неутолимый будто бы никогда. Я готова была вцепиться зубами во всё, что движется.
Потом, в какой-то момент, вдруг осознала, что слышу знакомый звук. Это был голос Вики. Он что-то повторял, раз за разом. Поборов тяжёлый дурман в голове, я разобрала смысл слов: она просила подойти к столу рядом. С трудом, но я сделала это.
Через некоторое время голос раздался вновь. И я снова выполнила просьбу. Ведь это же Вика! Мы с первого класса сидели вместе, она крестила Славика, а я была свидетельницей на её свадьбе.
Голос появлялся всё чаще, он требовал то одно, то другое, и это бесило, потому что мне всё ещё было тяжело думать. Однако я приучала себя не злиться. Каким-то образом понимала, что Вика желает добра, делает что-то полезное для меня.
Затем я её увидела. Человеческая фигура. По привычке бросилась, чтобы поесть, но вдруг услышала знакомый голос. Он исходил от этой фигуры. Я запнулась. Задумалась. Вдруг заметила, что не голодна.
Как Вика рассказала мне потом, она подкармливала нас со Славиком, чтобы мы вели себя спокойнее. Тех, кто каждый день в поисках еды бросался на людей или домашних животных, быстро убивали. Мы же, сытые, больше прятались и благодаря этому остались живы.
Когда я стала разумной настолько, чтобы узнавать Вику, начала заниматься с сыном. Учила его: остановиться, послушать, выполнить. Сначала он всего лишь повторял за мной, затем смог самостоятельно понять, чего от него хочет тётя Вика. Тот день, когда он — сам! — выполнил её просьбу, стал нашим маленьким праздником.