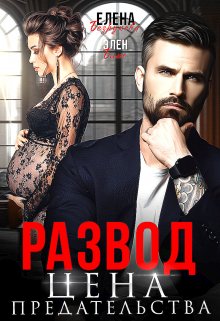Sub umbra
Sub umbra
Синее-синее сентябрьское небо было затянуто темным едким дымом. Даву на взмыленной лошади галопом носился между солдатами, одним своим видом уже придавая им уверенности. Маршал же наоборот нервничал, ему не нравилось положение дел на поле битвы. «Чертов братец Бонапарта, упустил Багратиона, — он то и дело резко осаживал коня. — И сам Наполеон хорош, — и тут же передразнил его: — „Не стоит так рисковать в глубине России, Луи. Твои маневры успешны, но опасны, нельзя обходить их с левого фланга“. А связываться с двумя армиями сразу так не опасно».
Настроение у него с самого утра отвратительное не просто так. Наполеон раздражал своим позерством: маршалу казалось, что не надо было ни выставлять портрет сына перед всеми войсками, ни суетиться; лучше еще раз все хорошенько проверить. По мнению Даву, сила армии, как и в механике, определялась ее массой и скоростью маневров, а вовсе не их красотой.
Кроме того, Наполеон не был в непосредственной близости от сражения, не видел происходящего на поле и опирался лишь на донесения адъютантов. В результате приходилось постоянно посылать ему гонцов. Даву злился: он не мог ни шагу ступить без постоянного контролирования сверху.
Лошадь под ним вдруг взвизгнула, вскинула голову, разбрызгивая хлопья пены, и стала заваливаться на бок. Даву выкинуло из седла, и он со всего размаху ударился о землю головой. Все перед глазами вспыхнуло алым, затем резко сделалось темно-кровавым, заплясали красные мушки. Во рту появился неприятный металлический привкус.
— Маршала убило! — понеслось над Бородинским полем.
Даву, оглушенный, растерянный, ослепленный, повернул голову на голоса. «Какого маршала?» — с трудом подумал он, не подозревая даже, что это кричали о нем…
***
Ночь была тихой, темной и безлунной. Ветер шелестел в золотых березках и колыхал стенки палатки. Свеча давно потухла, но человеку за столом не было до нее никакого дела. Даву, а это был именно он, сидел, обхватив голову руками. Плечи его нервно подергивались. Он, маршал Великой армии, герой сражения при Ауэрштеде, не проигравший ни одной битвы, едва сдерживал рвущиеся из груди рыдания. Обида, злость на императора и на остальных командующих душили его. Безумно болело в висках, звенело в ушах, ныла придавленная убитой лошадью нога, но Даву не двигался с места. Голова предательски кружилась, он боялся подняться и упасть. Адъютанты не смели заглянуть к нему и предложить помощь. Лежать на холодной земле совершенно не хотелось, уж лучше сидеть пусть на твердом, но более или менее теплом стуле.
«Они попросту приговаривают меня к смерти и позору своей неимоверной глупостью!.. — думал он в ярости то ли об адъютантах, то ли о своих коллегах. Усталость навалилась на него совершенно внезапно, и он уже совершенно безэмоционально закончил мысль: — Ну да Бог вам судья…». Маршал положил голову на твердую столешницу и прикрыл глаза.
Спать хотелось, но он не мог: то начинало тошнить, то вдруг чудилось, что стол кружится. Контузия, показавшаяся ему сначала пустяком, была теперь жутким мучением. «Когда-нибудь это кончится, — он тихо вздохнул и поморщился: боль перешла в затылок. — Если не сойду с ума».
Стенки палатки сделались ему невыносимыми. В тылу было слишком тихо. Даву предпочел бы слышать постоянную канонаду, чем эту тишину, и видеть битву, а не чертовы колыхающиеся занавески входа.
Перед глазами заметались призраки-воспоминания. Всплыл блистательный Мюрат, сидящий верхом на коне. «Театральный король», — презрительно хмыкнул Даву, и Иоахим развеялся в воздухе. Промелькнул зачем-то и пропал Бессер с длинными завитыми волосами. Франсуа одарил его приятной лучистой улыбкой и мягким сочувствующим взглядом единственного серого глаза. Возник Ней. Маршала даже перекосило от этого видения. «Пошел вон, Рыжий!» — прошипел он мысленно призраку. Под Смоленском они сильно повздорили, и Даву никак не мог забыть ссору.
Ней сменился Наполеоном. Его большие глаза смотрели на Даву с усмешкой. Полная фигура императора отчего-то напомнила маршалу бочку. «Интересно… что ему донесли: что я мертв?.. И если так, сообщили ли, что я жив?.. Он, небось, и не спросил...».
«Помнишь, Луи, как Русский Сфинкс обвел тебя вокруг пальца у Гединга?» — Наполеон по-кошачьи ухмыльнулся.
— Катитесь к дьяволу, ваше величество… — вслух пробормотал Даву.
Император исчез. Серый туман вдруг заполнил голову и столь же внезапно развеялся. Перед маршалом необыкновенно четко и ярко засветилось лицо жены. Луи грустно вздохнул. К ней он то вспыхивал нежностью и любовью, то вдруг охладевал. Луиза смотрела на него с печалью, словно вопрошала: «Где же ты?». Даву снова вздохнул, разглядывая ее. Как бы он хотел сейчас оказаться не в палатке, а дома, чувствовать ее ласковые руки и молчать, разрешая ей поглаживать его по плечам…
Липкая темнота душила его и пугала. Казалось, что он вот-вот свалится со стула на пол. Одиночество, никогда не пугавшее его, навалилось тяжким грузом.
— Мой маршал, — знакомый тихий голос донесся о него, словно издалека, — обопритесь на меня, я помогу вам встать.
«Кто это?.. — Даву машинально принял помощь, силясь разглядеть говорившего сквозь темноту. — Кто-то знакомый, я чувствую…». Неизвестный спаситель, а он действительно сейчас был спасителем, помог ему лечь, положил на лоб смоченную в воде холодную корпию и мягко погладил его по подергивающейся руке.
— Спите, мой маршал, — произнес усталый, грустный шепот. — Спите. Не бойтесь, я разберусь за вас в бумагах.
Даву с трудом пересилил себя и приоткрыл глаза, но вместо лица говорившего вновь увидел Луизу. «Что за наваждение… — измученно подумал он, смирившись и проваливаясь в дремоту. — Чего только не привидится во мраке…».