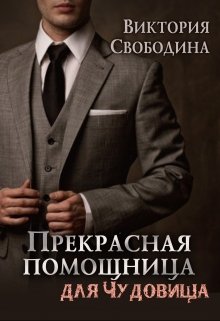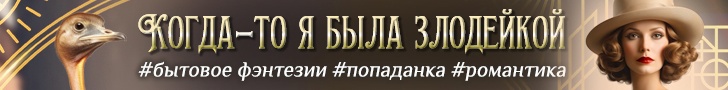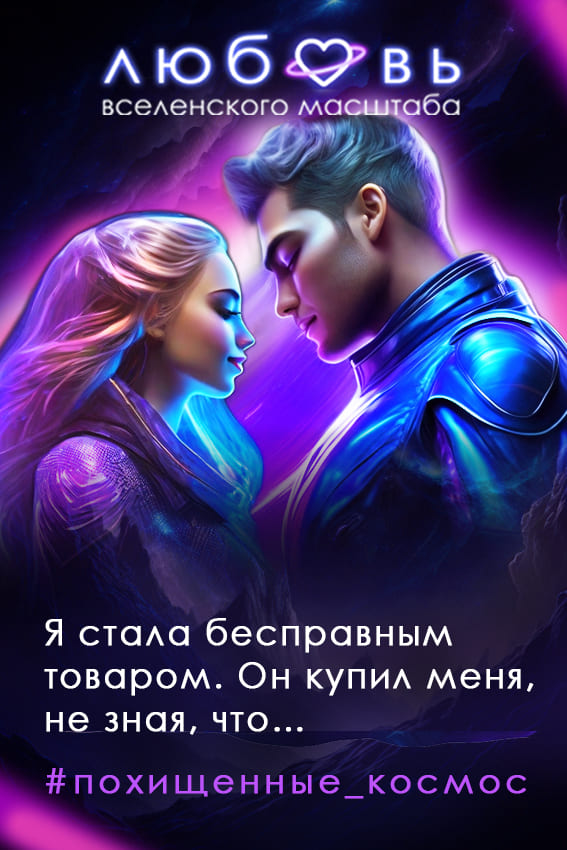Судьба там, где ты желаешь быть
Судьба там, где ты желаешь быть
Миниатюра о Марии Афанасьевне
– Я умерла? – спокойно спросила Мария Афанасьевна у полупрозрачного клерка, сидевшего за белым письменным столом.
– Вы огорчены? – в голосе клерка старушка услышала сочувствие.
– Нет, что вы! Я пожила хорошо. В последние лет сорок даже счастливо. У меня всё состоялось. Чего ещё желать?
Клерк кивнул и продолжил заполнять формуляр, пальцами щёлкая прямо по крышке стола. В столешнице было что-то вроде экрана, хотя скорее, вся поверхность была экраном, но сейчас светилась только та часть, где открылись пункты о Марии Афанасьевне.
– Чего-то боитесь? – клерк почуял тихую волну беспокойства.
Старушка замялась. Клерк выдержал паузу. Переспросил:
– Что вас тревожит? Я чувствую.
– Я, наверное, в ад попаду? Грешила много.
– Нет, в рай. Все грешат. Вы умерли с лёгкой душой. И легко вознесетесь. В аду не грешники.
Клерк закончил свои записи, встал, чтобы проводить старушку дальше. Остановился у двери и сказал:
– Ваш запрос мы выполним.
– Запрос? – Мария Афанасьевна решила, что ослышалась. – Разве я что-то просила?
Клерк нажал на пульт и на стене появилось кино: Маша с подругой шли по городу и разговаривали. Маше тогда было лет пятьдесят. "Совсем девчонка" – подумала Мария Афанасьевна, не дожившая до сотни полтора года.
Появился звук в кино, говорила Маша: "Знаешь, вот думаю, когда я умру, смогу ли я быть ангелом-хранителем не для одного человека, а для нескольких? Я же не одного человека люблю?"
Мария Афанасьевна долго смотрела на стену, хотя изображения уже не было. Опомнившись, спросила почти без голоса:
– Вы всю мою жизнь записали?.. Или ключевые моменты?
– Ваша жизнь нигде не записана, это видите только вы. Запросы, правда, фиксируются. Если они связаны с нами.
– А в чём запрос?
– Мария Афанасьевна, вы будете ангелом-хранителем не у одного человека, а у всех, кого любили.
– Как же я справлюсь? Успею ли?
– По пятам ни за кем ходить не надо. А души вашей хватит на всех. То, что их много, им же силу и даст. Я про охраняемых вами.
Старушка посмотрела ещё раз туда, где было "кино", улыбнулась светлой улыбкой, приосанилась и кивнула клерку, мол, пошли, чего топчемся.
– Мы можем не торопиться, вечность вокруг, – ответил клерк и всё же открыл дверь.
Ты – бог
– Если бы ты был богом, что бы ты выбрал? Что дало бы тебе счастье от мысли «я могу!»?
Мы сидели в кальянной, и вопрос Макса хоть и стал неожиданным, но вполне вписался в обстановку.
– Силу, конечно, – полушутя-полусерьёзно ответил я.
– Это мелко. Думай.
Я завис. Завис настолько, что потерял связь с реальностью. Шаг и я не тут с другом в полутемной современности, а на маковой долине у входа в пещеру на высокой горе. Занесло же!
– Морфей! – из пещеры раздался бас. Виски зачесались. Поднес руку к правому виску. О, боги! Потом пощупал левый висок. Там и там росло что-то с перьями. Хотел выругаться, забыл даже азбуку мата. На голове росли крылья. Я, мать твою за ногу, бог сна и сновидений с куриными отростками на голове. Дожил. Докурился.
– Морфей! – голос стал грозным. – Ты где? – голос приближался и наконец из пещеры показался атлетически слаженный бог. Мой обескураженный вид его, кажется, не очень удивил. – Вернулся из сна? – и не выясняя подробностей, позвал вглубь пещеры. – Мать хочет сделать перестановку в пещере. Ложе подальше от истока реки Забвения отодвинуть. А то ни одну ночь за последний век не помнит.
– Хм… – усмехнулся я. – А кто, интересно, это ложе придвинул сто лет назад к источнику забытья? Не ты ли, отец?
Гипнос с довольной улыбкой фыркнул:
- Ну, сработало же!
***
Снова кальянная. Надо на свежий воздух, походу, обкурился.
Жили-были египтяне
Старый Омфис посадил одного внучка на правое колено, второго, поменьше, на левое.
– Ну, что сорванцы, сказку рассказать?
– Да, деда! Расскажи! Про далекую планету! Планету, где раньше жили люди! – внуки щебетали наперебой.
– Ну, слушайте, гаврики, – дед ухмыльнулся, помолчал, перебирая старые сказки и легенды в своей дремучей голове. Потом взгляд его упал на игрушки в голубой песочнице внуков, и он вспомнил древнюю страну в желтых песках у великой голубой реки, кормившей целый народ. – Ага, расскажу-ка я вам о пирамидах Кемета.
– О пирамидах? – расширил глазища старший внук Хоти. – Как в песочнице у Десси?
– Верно, Хоти, о таких же. Слушайте, проказники.
Давным-давно, много-много лет назад, в полутора-двух парсеках от нашей планеты жил-был великий народ на Чёрной Земле.
– А почему черной? – Хоти был в возрасте неугомонного почемучки. – Её чёрной краской покрасили?
– Нет, золотко, – улыбнулся Омфис. – Земля была чёрного цвета и плодородной… то бишь урожай на ней хорошо рос. Етер разливался почти на два месяца, а уходя в свои берега, оставлял живородящий слой.
В разное время правили великой страной разные цари. Когда рождался новый будущий повелитель, его начинали готовить не только к мудрому правлению, но и к переходу в другую жизнь, когда настанет его время. Никто, кроме избранных и их жрецов не знал, что это за жизнь, и как всё происходит.
– А как всё происходит?
– Разве ты не помнишь?
– Нет, деда, ты не рассказывал, – уверено возразил Хоти.
– Эх, голуба моя, всё забыл. Переход – штука непростая. Кто-то помнит его, кто-то только отдельные нити, а у кого и совсем беспамятство. Ну, слушай дальше.
Как только избранный становился правителем, ему начинали строить портал. Для остальных он назывался гробницей. На нашей планете такие порталы есть везде, они маленькие. В Кемете тоже небольшие, но их надо было прятать от чужих глаз. Поэтому над порталом возводили громадные пирамиды. Туда складывали то, что они считали богатством, что могло, как они думали, пригодится в загробной жизни.
Когда приходило время перехода, жрецы посылали знак нам. Они замуровывали вход и рисовали на всех четырех сторонах пирамиды знаки – Анх – ключ жизни.
– Как у нас с Десси? – Хоти дотронулся до золотого кулона на кожаном шнурке.
– Да, родной, как у вас с Десси.
Этот знак шёл несколько лет до нас. И тогда наши жрецы открывали портал и помогали возрождению царя уже у нас.
– Деда, твои жрецы? Которые у тебя в храме службу несут?
– Они, милые, они. Как только царь возрождается у нас, там на Земле все знаки с пирамиды тут же исчезают. И появляется такой же золотой Анх на левой лопатке.
– Как родинка у Десси?
Дед Омфис кивнул. А Десси, до сих пор молчавший, подал свой голосок:
– И как у Хоти.
На пороге чужой души
– Ангел мой, помоги мне! – взывала Душа.
– Что случилось, Душа моя?
– Помоги мне, пожалуйста. Я хочу увидеть душу вон того человека.
– Зачем?
– Он интересен мне! У него такие взгляды, мысли, чувства! Я хочу заглянуть в его душу, – робко объяснила Душа.
– Разве ты не знаешь, как это опасно, – Ангел взял на руки Душу.
Душа засияла еще ярче и осмелела.
– Всё может стать опасным, даже твой свет.
Ангел засмеялся, на земле в этот момент родилась новая река.
– Как же мой свет может быть опасен?
– Когда его очень много, кроме него ничего не видно. А ты сам говорил, что надо видеть и добро, и зло, и всё остальное.
– Когда это я говорил?
– Пару десятков тысяч веков назад.
– А-а-а, я тогда был очень юн.
– Ты поможешь мне?
– Увидеть чужую душу? Я ещё раз предупреждаю тебя, что это может быть очень опасно. В чужой душе можно потерять себя, раствориться, поломаться. Можно испугаться до онемения, шока. Но что ещё ужаснее, уничтожить ту душу, которую ты увидела.
– Я же просто посмотреть.
– Просто никогда не бывает. Тебе кажется, что только посмотреть. Но очень часто чужая душа завораживает так, что ты забываешь всё на свете.
– Я буду осторожна. И ты же всегда рядом.
Ангел подумал. Душа замерла. Сколько прошло, Душа не поняла. Минута, день, век?
Ангел встал и широкими ступнями прошел по мягкому облаку к двери, которая появилась поодаль. Душа полетела за ним. На двери проявилась золотая ручка. Ангел легко тронул её и дверь медленно стала открываться. Так медленно, будто не хотела этого делать. За дверью было темно.
Душа встала на пороге души. И нельзя было сказать, что она чувствует. Это не страх, не удивление. Не радость, не печаль, не счастье, не любопытство.
– Что это, Господи?
– Чужая душа – потёмки, – пошутил Ангел.
– Я о себе. Что то, что я сейчас чувствую?
– Это любовь.
– Можно мне пройти дальше?
– А тебя туда приглашали?
Душа смутилась и на шаг отошла. Дверь стала закрываться.
– Нет-нет, не закрывайся! Пожалуйста! – подумала Душа. И дверь остановилась. – Господи, что же мне делать? Меня не зовут туда, но я чувствую притяжение. Это иллюзия?
– Возможно.
– А бывает по-другому?
– Конечно! Бывает по-разному. Разные двери, разные души. Хочешь убедиться в этом?
– Да, но не сейчас. А может, и не надо убеждаться? Может, здесь моя судьба?
– Судьба там, где ты желаешь быть. Другими словами, судьба – то, что ты уже совершила, а не то, что предстоит.
– То есть я могу простоять на пороге чужой души несколько столетий, а она меня не пустит?
– Да.
Душа не знала, что сказать и что делать. Чужая душа продолжала быть в потёмках, в ней нельзя было разобрать ничего, но в глубине было нечто притягательное. Такое притягательное, что тянуло к себе, и сопротивляться этому притяжению было трудно. Это было странно. Чужая душа притягивала, но не звала.
Просто стоять тоже нельзя. От бездвижения души стареют и ветшают. Душа попробовала свой свет направить в глубину чужой души, но получила неожиданный отпор, даже удар.
– Осторожнее, я же предупреждал! Нельзя так сразу. Больные души боятся такого количества света.
– Эта душа больна? Чем?
– Нелюбовью, неверием, страхом, чужим презрением. Её не вылечить против ей воли. Она не готова к этому.
Душа задумалась. Уйти нельзя, остаться тоже. Пройти внутрь можно, но очень опасно. Для обеих душ.
Время дышало каплями дождя.
– Я поняла!
Душа оставила кусочек своей души и положила на пороге. Кусочек ласково и тепло светился. Он был щедр, но не слепил глаза. Чужая душа, казалось, осталась прежней, неподвижной и темной. Но Душа почуяла движение глубины. Как далёкий вздох удивления или облегчения. Это не было лёгкостью. Но Душа ощутила, что немного ослабли путы чужой души.
– Как освободить её?
– Никак. Пока чужая душа не захочет, никак.
– Что же мне делать?
– Жить.
Что такое любовь?
– Сова, ты умная, ты в очках. Скажи, что такое любовь?
– Перестань называть меня совой.
– Да ладно тебе, – лениво сказала Маруся. – Правда, скажи, что такое любовь?
Почему-то Маруся решила, что я смогу ответить на этот вопрос. То, что мне за полтинник, ничего не значит. Громких любовных побед за мной не числилось, любовную психологию я не изучала. Но Машка как банный лист. Пристанет, не отвяжешься.
– Ну, Верунчик, ну, пожаааалуууйста.
– Почитай Франкла.
– Его я потом почитаю. Ты расскажи мне, как ты ее понимаешь.
– Хорошо. Если коротко, то любовь – это то чудесное чувство, которое наполняет тебя солнцем и никогда не заканчивается.
– Как это? Почему тогда ты одна? Значит, закончилось чувство? – Маруся недоумевала, у неё поднялись не только брови, но ещё и уши. Смешная девчонка.
– Вот и я думала, что закончилось. А когда повзрослела, поняла, что любовь вечна.
– Аргументируй! – Машка твердо произнесла это слово, мне пришлось продолжить. Хотя совсем не хотелось облекать в слова свои мысли. Однажды в детстве я поняла, что когда мы облекаем свои самые душевные мысли в слова и звуки, они становятся плоскими. Теряют свой важный сокровенный смысл. Но от Маруси не отвертеться.
– И не вздыхай так, – Маруся настаивала дальше. – Не вздыхай, а расскажи, что думаешь.
– Ну, хорошо, Марусь, слушай. Только ты ж спорить начнешь, а я на сегодня уже выдохлась.
– Не буду… Постараюсь, по крайней мере.
– Ну, вот ты же любила. Это я точно знаю. Потом ты разозлилась и будто бы разлюбила. Обиделась и обидела. Так?
– Ну, да…
– Придёт время, ты поймешь, что ты любишь его…
– Ненавижу его! – лицо Машки исказилось.
– Не перебивай, Марь. Ещё не время судить о том, какое чувство в конце концов останется. Ненависть и любовь могут жить в тебе вместе. Только ненависть сейчас сильнее. Потому что вы друг друга не услышали. Успокоишься и поймёшь, что любовь осталась. Она всегда была. И никогда не пройдёт. Никогда!
– Ты так уверенно об этом говоришь. Откуда ты знаешь?
– Марусь, а что ты от меня хотела услышать? Я не гуру, не мудрец, сидящий на святой горе. Я говорю только то, что пережила и переживаю сейчас.
– Я думала, что ты мне скажешь про влюбленность, страсть и всё остальное…
– Это формы любви и не только любви. Ты же понимаешь, что настоящая, истинная любовь – это не желание обладать, а свет, который есть в тебе. Ну и вокруг тоже.
– Это всё бла-бла-бла. Верунчик, я в такую любовь не верю.
– Не верь, – я усмехнулась. – Верь своим чувствам и мыслям. Мои мысли – это мой опыт.
Мы помолчали. Маруську я люблю за то, что с ней можно болтать о чём угодно. И о чем угодно молчать. Дружим с ней недавно, но переговорить успели больше, чем с десятком других моих подружек. Пока молчали, думала, рассказывать ли ей о том, что произошло со мной и с моим мужем. Машка не чужой, конечно, человек, но и откровенничать не с руки. Кто её знает? Растреплет по округе. Ладно, расскажу часть.
– Марусь, у меня история про любовь есть. Она давно случилась. Больше десяти лет прошло. Но выводы я сделала недавно. Так что, можно сказать, свежак.
Машка наклонила голову, давая понять «я вся внимание».
– С мужем мы расстались тяжело. У меня было много боли. Внутри, знаешь, всё стонало и кричало. И моей вины было, и его. И родственнички постарались. Такая любовь была. Всё было. И страсть, и влюбленность, и счастье. А потом всё рухнуло. Наверное, надежды были детские. А потом он умер. Нет, сначала мы расстались. И не жили вместе семь лет. А потом он умер. Но знаешь, что произошло в день его смерти? Мне приснился сон.
Я замолчала. И была благодарна Маруське, что она не перебивала, не подгоняла меня. И что даже не смотрела в мою сторону.
Подробности сна вспоминались по крупице. Впрочем, не в них дело. Расскажу Машке крупными мазками.
– Мне под утро приснился сон. Будто я в бане. Одна. Что я там делаю, непонятно. В бане нежарко. Знаешь, как в жаркий летний день бывает прохладно в нетопленной бане? Вот. Стою я, а передо мной кадушка на лавке. И ковш деревянный рядом. И как во сне бывает, я то с ковшом, то без него. Зачерпываю из кадушки. А там не вода. Понимаешь, не вода. А то, что я даже описать не могу. Чуть плотнее воздуха, но не жидкость. В жизни я такое никогда не видела. Прозрачное. Руками беру, а не чувствую его. Или её? Не воздух, не жидкость, не плазма. Непонятно. Зачерпнула, и на голову, на лицо. Прикосновения нет, но мне стало так хорошо, что даже не передать. Никогда так хорошо не было. Благодать. Именно благодать, не блаженство. Задаю вопрос себе прямо во сне: что это? И начинаю просыпаться. Первая мысль, когда проснулась: это любовь. Любовь, как она есть. А вечером мне сообщили, что муж умер…
– Это… это был он? – тихо спросила Маруся.
– Да, Машуль. Уверена, что он. Его любовь ко мне. Всё ушло, а любовь осталась. Я это поняла тогда же, после того, как узнала о его смерти.
– Ты же сказала, что выводы сделала недавно?
– А выводы не в этом. Помудрела-то я недавно, – хмыкнула я. – Мы думаем, что разрушаем любовь, а мы разрушаем друг друга и своё счастье. А любовь остаётся.
– Так ты его до сих пор любишь? – Машка сочувственно посмотрела на меня. – И что замуж уже никогда не выйдешь?
– Встречу тёплого человека, выйду. Я как узнала, что любовь никогда не проходит, так и поняла, что она не обладание. Мужа я не перестану любить. Но это не значит, что я не могу больше никого полюбить. Понимаешь?
– Нет… Пока нет. Но, может, я тоже когда-то помудрею?
Бумажные письма
Вы получали когда-нибудь бумажные письма? А отправляли? Прогресс стремителен, необходимость в письмах отпала. И всё же.
«Душечка моя! Как давно мы не виделись с тобой. Как тоскливо мне, зная, что ещё долго не свидимся».
В этих строчках столько тепла и любви. А представьте себе, что они написаны шариковой или перьевой ручкой на бумаге.
«Работы у меня много. Некогда голову поднять. Даже на выходных вместо того, чтобы прогуляться по чужому ветреному городу, я сижу за бумагами и делаю сложные необходимые расчёты и чертежи».
Ты держишь тетрадный листок, исписанный скорыми словами, и легко читаешь непонятный кому-то другому почерк. И видишь между строк «работаю без выходных, чтобы сократить эту чертову командировку и приехать поскорее к тебе».
«Помнишь, как мы ходили на каток? Оба не умели кататься и пошли на свой страх и риск. А на выставке не могли отличить Мане от Моне».
От этих слов становится тепло на сердце не только потому что твои воспоминания совпадают с воспоминаниями любимого человека, но и от того, что ты знаешь, когда автор письма писал эти строки, он чувствовал то же самое.
Дочитав письмо, ты прижимаешь его к груди, а потом аккуратно складываешь его по сгибу и кладешь в конверт. Поднимаешься с кресла и идешь к заветной шкатулке. Там собралась стопка писем друг к другу.
Пройдёт время, ваши внуки найдут её и удивятся, почему сейчас не принято отправлять друг другу бумажные письма. И задумают поставить памятник бумажному письму.
Робинзон и имидж
– А я снова тебе скажу по поводу имиджа. Недавно мне одна дама заявила "Мне имидж не нужен!". Хм... Правда? Ну, хорошо, отдай его кому-нибудь. Правда в том, что он у неё в любом случае есть. Потому что мы все живем в обществе, а имидж – это образ в глазах других. Это даже не совсем то, что ты создала, а то, что видят другие в тебе. Спешу разочаровать тебя и нарушить твой чистоплюйский взгляд: у бомжей он тоже есть.
– Ну, это ты загнула! Какой у бомжа имидж? – я засмеялась.
Мы сидели у печки в деревенском доме и рассуждали "о высоком", хотя, скорее, о гламурном, о моде, имидже. Начинали с Паустовского и скатились до имиджа. Обычно бывает наоборот, но мы с Илоной были трезвыми и сытыми, поэтому с высокого скатились быстро.
– У бомжа имидж бомжа!
– Глубокомысленно, – я уже заливалась смехом.
– Не хочешь, не верь! – почти равнодушно усмехнулась Илона.
– Верю-верю, – я на самом деле верила, просто меня смутил её пример.
Мы помолчали, послушали потрескивание печки. Потом я пошуровала кочергой дровишками, чуть прикрыла заслонку. Илона сняла с плиты чайник и заварила свежий чай. И тут меня торкнуло:
– Послушай, а это значит, что у Робинзона не было имиджа?!
– Как это? – Илона так удивилась, что застыла на месте.
– Ну ты ж сказала, что имидж это не то, что ты создала... ну или человек... любой человек. А то, что видят другие в тебе. Так?
– Да... Но мы же знаем, как он выглядел. В книжке же написано.
– Всё верно, в книге написано. То есть описан его образ. Но когда он был на острове, его же никто не видел. Да даже он сам себя не видел. У него не было зеркала.
– Как это не было? Должно было быть! Мы на игре проходили, помнишь? Кораблекрушение? Там надо было выбрать...
– Помню, – перебила я. – Ещё как помню, поэтому и знаю, что Робинзон зеркало не брал с корабля. А запомнила, потому что, когда перечитывала не знаю, какой раз, специально обратила на это внимание. Не понимаю, как он не взял его?
– Ну, он же не женщина! – справедливо заметила Илона. – Хотя как он собирался бриться? Слушай надо перечитать еще раз.
– Перечитывала...
– Может, не доглядела?.. – с надеждой в голосе спросила подруга.
Я пожала плечом. Кто знает? Может, и не доглядела. Мы пили чай и думали.
– Хм... – мы одновременно подняли друг на друга глаза и поняли, что думаем об одном и том же. – Пятница стал его первым зеркалом и отражателем образа. Источником имиджа Робинзона.
Илона нахмурилась и строго сказала. И не мне, а, скорее, себе:
Мне порой кажется, что с тобой общаться нужно не на трезвую голову, чтобы всякая фигня не лезла в мозги и душу.
– Да ладно, это еще не та фигня! Вот у меня еще вопрос есть...
– Не надо!!! – отмахивалась Илона.
– Ты что? Я ж не засну сегодня, если не спрошу тебя об этом, – я хохотала, потому что меня и саму смешил возникший вопрос.
– Ладно, валяй, я попробую переварить, – легко сдалась подруга.
– До Пятницы живыми существами,.. – я не успела договорить.
– Ты хочешь сказать, что козы, которых одомашнил Робинзон,.. – Илонка перебила меня, но не смогла досказать, смеялась со мной, и мы не могли остановиться.
Не знаю, почему нас тогда это так рассмешило. Ведь, правда, если образ, имидж, это то, что видят в нас другие, не только и не столько одежда, но и речь, поведение, то почему козы не могут быть отражением нашего имиджа? Сейчас-то до меня дошло. Действительно, пока не появился Пятница, у Робинзона не было имиджа, потому что только человек может дать обратную связь на должном уровне. Он отражение нас.