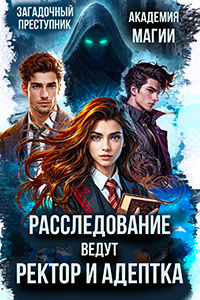Свитки. Книга третья
Пока горел светильник
К Н И Г А Т Р Е Т Ь Я
СУМИЯ
День завтрашний от нас густою мглой закрыт,
Одна лишь мысль о нем пугает и томит.
Летучий этот миг не упускай! Кто знает,
Не слезы ли тебе грядущее сулит?
Омар Хайям
Из дневника Маны
Ночь возвращения подарила мне длинное покрывало*. Хотя на самом деле, ни покрывал, ни каких-то других вещей, чтобы почтить память госпожи Берджик, у нас нет. Все вещи остались в заколоченной комнате. У меня только то, что было на мне и в моей котомке. Свиток этот я ношу с собой всегда, потому что боюсь, что кто-нибудь найдёт его и прочтёт. И тогда, прощаясь с госпожой Берджик, словно по чьему-то наущению я вдруг решила его взять. Потому сегодня и пишу эти строки.
Странно, но слёз нет. Может, я не любила её? Мне стыдно перед господином Юджии. С другой стороны, слёзы и стенания, думаю, принесли бы ему ещё большее горе. Всё, что я могу сделать для госпожи Берджик – это заботиться о господине, так, как делала это прежде она. И пусть простит мне она всё, чем я когда-либо обидела её.
Её похоронили в общей яме; без именных табличек, без надгробия, мы даже не знаем, где.
Господин Юджии почти не говорил со мной. Я не знаю, ел ли он что-нибудь в эти дни. Быть может, он тоже болен. Тогда и я обречена. Сейчас он спит или просто лежит с закрытыми глазами. На всякий случай, если эта запись окажется последней, прошу - для него и себя - о снисхождении и вечном покое.
Мана из Утерехте, свободная, служанка Саакеда,
в месяц Гицер тринадцатого дня.
Мана хорошо знала весь траурный обычай. Церемонии, длившиеся в течение нескольких месяцев в их доме и в доме тётки, у которой осиротевшая девочка жила после, навсегда в мельчайших подробностях запечатлелись в её голове. И теперь она чувствовала себя единственной, на ком лежит обязанность этот обычай соблюсти. Кроме того, мысль о необходимых хлопотах пусть и не на долго, но все же вытесняла другую, страшную мысль, и чёрное ожидание неминуемого.
Мана сосредоточилась на необходимом в первое время. Итак, покрывала. Господину Юджии, как брату, полагается длинное, большое. Крайне неудобное – при ходьбе постоянно мешает, приходится его придерживать рукой. Если сесть и ловко сложить под собой его концы, то ещё ничего. Тётка, например, даже умудрялась шить, управляться со ступкой и другими кухонными предметами. После четырех дней мучений можно, наконец, приладить покрывало к голове при помощи ремешка или простой веревочки, а потом и вовсе носить, как плащ, скрепив иглой или пряжкой.
Ей, как служанке, во все дни положено короткое, его можно как угодно связывать или скалывать, лишь на самих похоронах да на поминовении в храме требовалось быть с распущенными концами.
Но в Ро бурая язва отменила ношение покрывал. Носить их теперь равноценно безумию. Если носишь, значит, в твоем доме смертельная болезнь. Те, немногие, кто присутствовал на погребении, ещё накидывали их на головы в пределах кладбища, а после торопливо срывали и прятали. То же самое происходило и в стенах Светлого Чертога. Так что нужно просто найти пару кусков ткани, чтобы у себя в доме почтить память госпожи.
Далее. Поминальная трапеза, благовония. Тётка в свое время говорила, что деньги, потраченные на них, дымом вылетают в окно. И добавляла ещё кое-что про выгребную яму.
Для Маны смерть имела запах – это был запах дешёвых смол, горько-сладкий. Смерть имела вкус – травяной настойки и медовых лепешек, горько-сладкий. Горько-сладкая смерть, горько-сладкая жизнь... Нет ни муки, ни зерна, ни мёда, ни вина, ни, тем более, травяной настойки. Вместо мёда пойдет виноград, он тоже сладкий. Вместо горечи – солёная рыба. Солёная, как слёзы господина Юджии, которых Мана не видела, сухая – как ее глаза, которые видит он. Разве плохо? А вместо благовоний окурить комнату кипарисовой корой и шишками. Нужно сходить на площадь, проверить, раздают ли ещё зерно. Тогда она напечет лепешек и всё будет, как надо.
Спросить у господина про деньги? Мана боязливо оглянулась на Юджии. Нет, не стоит беспокоить. Может, он заснул впервые за несколько дней. Сама должна справиться. Она свернула свиток с подсохшими чернилами. Виноград сложила в миску, связки рыбы подвесила на верёвке от бывшей занавески, прежде разделявшей комнату на две части. Собрала котомку – вдруг понадобится для зерна – скинула дверной крючок с петельки и покинула дом.
Вроде бы ничего не изменилось за дни её отсутствия, но в то же время Мана чувствовала, что произошла неуловимая перемена; так бывает между летом и осенью, когда будто надламывается что-то в обычном, сначала незаметно, а потом всё более и более, и понимаешь, что возврата к прежнему не будет.
Она почти бегом бежала к площади, прижимая край платка к лицу: теперь ей казалось, что смерть разлита повсюду. По дороге никто не встретился, лишь издали она увидала людей. Люди что-то выносили из дальнего дома и грузили на тележку. Мана решила, что это выносят покойников и их имущество, и в страхе юркнула через проход между домов на соседнюю улицу.
Итхуз весь день просидел дома. Ему казалось, что родители напрасно опасаются: у его старшего брата обычная лихорадка. Однако к ночи у Дамана усилился жар, появились боли в груди. Итхузу пришло на ум сбегать в дом, где жила Мана. Если посчастливится, он, может быть, застанет и самого доктора Саакеда. У Маны же ему без труда удастся выпросить для брата какое-нибудь лекарство.
Увидев белый знак, Итхуз смутился и растерялся. Ещё утром он разговаривал с Маной, а вот теперь дверь её дома заколочена. Как могло случиться, что она заболела? Ведь их не было в городе. И, говорят, бурой язве нужно несколько дней, чтобы проявиться. Должно быть, в доме уже были больные, ведь доктор Саакед мог заразиться от кого угодно. Заперли ли Ману вместе с хозяевами? Или она вернулась утром, увидела заколоченную дверь и решила найти приют где-нибудь в другом месте? Но где? Кто решится открыть свои двери для неё? Быть может, она сейчас где-то бродит, ища места для ночлега, одна, на безлюдных, глухих к страданиям улицах?
Он уже направлялся восвояси, обогнув бывший сарай плотника, как вдруг дверь на противоположной стороне отворилась, и темная фигура разорвала дрожащее пятно света, отбрасываемого домашним светильником. Человек вышел, Итхуз без труда узнал в нём доктора Саакеда. Он заволновался: разве может больной язвой вот так спокойно выходить из своего дома? Окликнуть? Вдруг он сейчас уйдет?
Саакед между тем прикрыл дверь, медленно и даже как-то грузно опустился, присев, по-видимому, на какой-то предмет, находившийся во дворе. Итхуза от него отделяли несколько шагов да низенькая, едва доходившая до пояса, каменная ограда.
– Господин ?
– Что? Кто здесь? – доктор резко выпрямился, пытаясь на слух определить, где находится человек, его окликнувший.
Итхуз подошел, так, чтобы оказаться напротив; испуг и волнение сдерживали его язык, запинаясь, он поведал свою заботу. Юджии выслушал его, иногда переспрашивая, потом велел подождать, вернулся в дом и через некоторое время вышел уже в маске, с сумкой через плечо и фонарём в руке.
– Идём, – сказал он, поднимая фонарь, чтобы осветить Итхузу и себе дорогу.
Когда господин ушел, Мана убирала со стола. Они только закончили поминальную трапезу, которую девочка приготовила из того, что было в доме. Если бы она не назвала ужин поминовением, Саакед вряд ли притронулся к пище. Он весь ушел в себя. Это было не только горе. Тайная, мучительно-неразрешимая дума владела им, и он, всечасно находясь с нею в беседе, был не подвержен всему внешнему. Мана знала, что обычно говорят при поминовении, но слова как-то не шли, и, боясь нарушить внутреннее уединение господина, она тоже молчала. Увидев, что Юджии собирается навещать больных, она подумала, что это к лучшему, и что, может быть, врачевание отвлечет господина.
Её теперь волновало, как сказать Юджии о встрече с Филлусеном, и как уговорить доктора покинуть город. Чутьё подсказывало, что после смерти Берджик Саакед еще менее склонен дорожить своею жизнью. Она решила не ложиться спать, и, дождавшись господина, обо всем рассказать ему.
Но время текло медленно. Вспомнив о том, что давно не прикасалась к свиткам, Мана захотела от нечего делать разобрать их. Саакед хранил записи в большом продолговатом футляре, все вместе, нередко перемешивая тексты. Время от времени Мана наводила в рукописях, как ей казалось, более-менее надлежащий порядок и Юджии никогда не высказывал своего неудовольствия по поводу ее вмешательства.
Она без труда отыскала большой футляр. Скрестив ноги на жёстком деревянном ложе, прежде служившем постелью в лечебнице, а ныне лишенном тюфяка и покрытом лишь куском парусины, поставив светильник как можно ближе, Мана погрузилась в чтение.
#20285 в Фантастика
#2193 в Альтернативная история
#85400 в Любовные романы
#2205 в Исторический любовный роман
Отредактировано: 12.07.2020