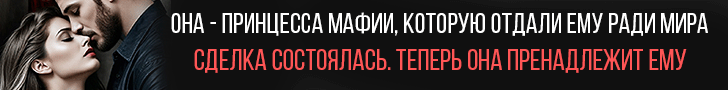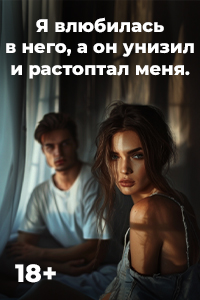Сыкля и мудрецы
Сыкля и мудрецы
Сыкля и мудрецы
Друг мой и товарищ по несчастью Сыкля заучил всего Луциллу, и за немногим меньше - Доцилия и Петроса Блаженного, мог труды их серьезные и поэмы театровые прочитать задом наперёд, и любой стих, выбранный наугад. Но сам и трёх слов связать не умел. Чтобы матушке написать записку, звал за медяк полупьяного расхриста, который в соседней корчме за грамоту свою брал едой и водкой. Сыкля путанно мычал, пытаясь сложить три слова в пять рядов, пока расхсрист сам за него не отчитывался матушке, мол, всё хорошо, да живот от голода потягивает, пришлите хотя бы пяток серебра. Туп был Сыкля до неимоверия, хотя гладким своим узким лицом с замызганными очками на длинном носу мог сойти за образованного. Отец-учитель на него уже имел планы, полагая перепродать в монастырь куда-то в Селебрию, где за читателя стихов и поэм платили червонец золотом. И не удивительно, что отец-учитель был весьма зол, когда начались у нас «Мучения Секста», книга столь тяжёлая во всех смыслах, что мы загодя всем классом на весу кирпичи держали, лишь бы к Сексту подготовиться. А уж что до содержания, то едва ли я каждое пятое слово узнавал.
Учение велось так. Читали мы первую главу столько раз, сколько вмещалось с седьмого утреннего петуха до восьмого вечернего, лишь на пол петуха отвлекаясь на обед, если у кого такой имелся. Мы с Сыклей грызли сухари, а кто побогаче – сыр и солонину. Читали до обеда главу, ту же самую – после, и так раз эдак тридцать, да и то я не знаю, ибо после десяти считаю плохо. После недельного чтения в руки нам давали линейки, которыми мы верхние строки закрывали, и при каждом новом чтении по строчке от себя прятали. И за ошибку получали палкой по заднице, отец-учитель ходил вокруг да около, и острым своим слухом улавливал огрехи. И не давался Секст Сыкле, путался он, слова местами переставлял. Отец-учитель на остальных внимание на обращал, всё вокруг Сыкли вертелся, о золотых своих пёкся, и осыпал его ударами, а Сыкля плакать начал, и как слезу на книгу уронил, так и получили всем классом по десять отлупов. Сыклю еще и вечером поколотили Кранс со своими дружками. А я за поникшим Сыклей увязался, спросил, чего это он, Секст может и тяжелее Луциллы, но…
Как только я упомянул Луциллу, оглянулся на меня Сыкля, дико посмотрел, а потом вдруг схватит за грудки, к забору прижал и на ухо давай горячо шептать. Мол, ночью ему сегодня приснился Луцилла, такой же, как на обложке книги, чёрный, горбатый, с одним глазом и кривой рукой. И сказал, что раз Сыкля выучил все книги Луциллы, стало быть, Сыкля теперь – Луцилла. Возродился писатель-горбун в Сыкле, ибо вкладывал в тексты и душу свою, и разум, и всяческое разумение, и ошибок груз великий.
Я шикнул на Сыклю, про сны чтобы отцу-учителю не говорил, известно ведь, что ночные видения – от подземной тройцы, дьяволов земельных, дурные наваждения. Но Сыкля всё про Луциллу талдычил. Проснулся сегодня Сыкля, и хозяйке своей что-то такое высказал, что месяц до того из словес складывал в своей тугой башке. И во время чтений голос он слышал старческий. И я понял, что от Сыкли никогда столько умного, или даже понятного, не слыша за всю его жизнь. И страсти такой в нём никогда не видывал. Позвал я его в корчму, по медяку за кружку пива заплатил и горбуху хлеба, и выспрашивать начал. Луцилла – он ведь альфа и омега, великий учитель и всё такое. Припоминал что о нём говаривал отец-учитель. Трактаты по политике, экономии, салорике и алогике. И по софологии, продолжил Сыкля, и еще труд об отличении хорошего от плохого, и много чего другого. Успокаивал я приятеля, а сам прикидывал в голове – это ж прибыльное предприятие получается. Сыкля теперь – кладезь знаний, которые и зубрить не нужно. Прилично накачавшись пивом, мы отправились на Вафельную площадь, к старому Самосу. На доске у входа мелом написано на что берутся ставки. Тыкнул Сыклю в доску, наказал хорошенько пошевелить мозгами и выдать мне, с учётом политэкономии и алогики, на чём мы барыши подзаработать можем, на медвежьих боях, где в фаворитах какой-то белый чудищ, привезённый с севера, неимоверных размеров, или на черепашьих гонках, или еще на чём. Хоть и пьян мой друг, но Луцилла в нём не задремал, уверенно показал на пятую строчку доски. Поставил я всё, что выгреб из карманов, на чёрного медведя, горного происхождения, мелкого, донельзя злющего, и мы тут же повалились у лавки Самоса и заснули. А наутро получили мешочек серебра, эдак на тридцатку, в чём я удостоверился, дав посчитать монеты Сыкле. Чёрная зверюга разодрала нос белому гиганту, и тот что собака битая, заскулил в углу бойцовского загона, так рассказали очевидцы.
Отъелись мы в корчме в тот день так, что дышать трудно было. Курица целиковая, кувшин вина, а на большее наших тощих животов не хватило. Потащил я Сыклю к расхристу Войше, что в Соломянном переулке сидел, к прошлому ведь, Самосу, нельзя, заподозрит. И, оттуда мы уже два мешка серебра унесли. А у третьей лавки заупрямился Сыкля, нет, говорит, не могу я, Луцилла не позволяет.
- Как это, - спрашиваю я. – Он же богаче самого анператора был.
- «И не прав в том Доцилий, что деньги – это признание достоинств человека, и в политике, и в игре, и в экономии, ибо золото из земли выкапывают и из ручьёв земельных моют, то бишь моча то земляных дьяволов, на воздухе затвердевшая и человеком алчным взалкаемая.»
И как я Сыклю не уговаривал, он ни в какую не соглашался. Призадумались мы, и я другу своему объяснил, что дар его – самделишный дар, какой в канаве не валяется. И уж по той курице понятно, что серебро – оно и для души приятно, и разум на сытый живот ловчее шевелится. И об участи его Сыкле напомнил, продаст его отец-учитель за горсть золотых, от которых Сыкле только розги да оплеухи достанутся, будет до седой старости читать Луциллу монахам, которые только амбарную книгу и видели.
Отредактировано: 06.10.2024