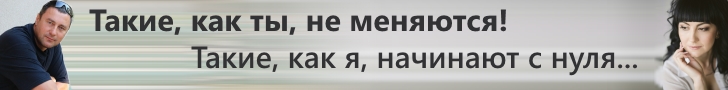Три четверти синего
Три четверти синего
Три четверти синего
Так вот теперь сиди и слушай:
Он не желал ей зла.
Он не хотел запасть ей в душу
И тем лишить ее сна.
Он приносил по выходным ей сладости,
Читал в ее ладонях линии,
И он не знал на свете большей радости,
Чем называть ее по имени…
— Нарисуй мне море, — просит Эвка и смотрит на меня умильно своими синющими глазами, и задумчиво слизывает с верхней губы взбитые сливки, которыми был намазан сверху пасхальный кулич. Кусок этого кулича Эвка только что доела и теперь платье ее в рассыпчатых бисквитных крошках, пальцы липкие, зато на лице выражение полного счастья и довольства жизнью. В самом деле, можно отлично радоваться жизни, когда тебе шесть лет, кругом тепло и солнце, и одуванчики в траве, и цветут яблони, и в никогда не просыхающей луже прямо за забором дачи повылуплялись и даже отрастили себе руки-ноги смешные головастики, и на Великдень мать подарила тебе плюшевого, хотя и несколько косолапого, самодельного зайца.
Заяц лежит рядом с Эвкой на траве. На его растерянной морде тоже видны следы от взбитых сливок: Эвка щедрая душа, кулича для зайца ей не жалко.
— Нарисуй, ну трудно тебе, что ли? Вот чтобы небо, просто очень много неба – и море. И еще кораблик. И солнышко. Или ты не умеешь?
Эвка хмурит рыжие бровки. Если рассердится всерьез – будет буря. В гневе Эвка страшна, как архангел Михаил. Если вдруг случится война, мы обязательно победим. Потому что у нас есть Эвка.
— Нарисуй, и пойдем смотреть жабенят.
— Головастиков.
— Жабенят. Адам, ты прямо ужас какой противный. Какие они головастики, когда у них голов нету? А руки и ноги – как у жабки. Они вырастут и будут жабы. А пока маленькие – жабенятки. Давай я принесу тебе бумагу и краски.
Она убегает, волоча по траве за одно ухо своего зайца, а я лежу под яблонями на старом одеяле и смотрю в небо. Блажен, кто может вот так валяться и ничего не делать, и следить за облаками сквозь розовую цветень. Но блаженство никогда не длится вечно. От крыльца доносится возня и возмущенные Эвкины вопли. Им отвечает спокойный и непреклонный голос Катажины. Иногда я даже удивляюсь, как в одной красивой женщине может умещаться столько строгости, и всерьез задумываюсь о том, что бояться в этой семье следует не младшей, а вовсе даже наоборот. Впрочем, пока я раздумываю над этим, Катажина успевает вить из меня веревки.
— Нет, я пойду, пойду!.. Потому что Адам добрый и не жадный! И отпусти моего зайца. И сама иди причесывайся, а я не буду!
Катажина отвечает – я не разбираю слов, но ясно слышу затаенный смех в ее голосе, и так хорошо представляю ее всю – как она сидит на веранде в плетеном кресле, набросив на плечи розовую с вышивкой шелковую шаль, и почти летнее солнце прошивает всю ее фигуру тонкими лучами, пляшет искрами в рыжеватых волосах, чертиками прыгает в глубоких темных глазах. Один пан Бог знает, что она во мне нашла.
Пан Бог и еще Эвка.
Она возвращается – с неизменным зайцем подмышкой, с альбомом для рисования и пачкой пастельных карандашей. У зайца скорбное выражение на морде – как будто он за пять минут повидал все ужасы и все горе мира. Эвка кладет передо мной на траву альбом и карандаши, а сама усаживается на одеяле и принимается ожесточенно распутывать при помощи гребня свои льняные коски: мать явно строго-настрого наказала привести волосы в порядок. При этом Эвка пыхтит, как рассерженный еж.
— Море и кораблик, — напоминает она, тыча в чистый альбомный лист все еще липким от пасхального кулича пальцем. – И солнышко.
Море и кораблик – перевернутый полумесяц с треугольным мертвым парусом, качающийся на ровной синей поверхности, под которую должно уйти пол-листа. И солнышко – четверть круга в правом или левом верхнем углу. Все остальное – небо, по тону чуть светлее моря, чтобы не перепутать. Проще этого – только «ручки-ножки-огуречик, вот и вышел человечек» . Странно, зачем Эвке, которая в свои шесть лет достаточно взрослый и умный человек, такая ерунда. Когда она совершенно точно знает, что я могу нарисовать для нее все что угодно. От живых зайцев, гуляющих по облакам, до принцесс и драконов. Но драконы Эвке почему-то неинтересны.
Ну ладно, море так море. И солнышко. Понадобится вот этот карандаш, и еще два вот этих, и изумрудно-зеленый тоже, и нежно-розовый, и голубой, и ярко-синий: в море, как известно, плавают медузы, а как рисовать их восхитительные мантии, не имея под рукой ни розового, ни чернильно-синего?
Три четверти синего.
Эвка следит за моей рукой, затаив дыхание и старательно высунув язык. Время от времени я поднимаю на нее взгляд. Вижу внимательные синие глазищи, закушенную от волнения розовую губу, льняной хвост толстенькой коски, которая свесилась из-за плеча. Над Эвкой – оглушительное в своей синеве небо мая и яблоневые ветки в облетающих соцветиях. Синева плещет отовсюду, бьется на кончиках пальцев.
Три четверти синего.
— А море?.. – растерянно спрашивает Эвка, принимая из моих рук рисунок.
На нем нет моря, нет кораблика и солнышка тоже нет. С альбомного листа смотрит настороженно и чуть исподлобья девочка шести лет. Синие глаза, розовый рот, синее небо над головой.
Почему-то очень больно дышать.
Дождь стоит стеной – так, что не видно даже противоположной стороны улицы. Но на лужах уже вспухают веселые пузыри, оглушительно пахнет мокрой зеленью каштанов, по брусчатке стремятся вниз к реке мутные потоки, тащат сбитые ветки, обрывки газет, прочий городской мусор. Вот поплыла, качая соломенными боками, чья-то шляпа. Смешно представлять, как порывом ветра ее снесло с головы какого-нибудь серьезного дяденьки.