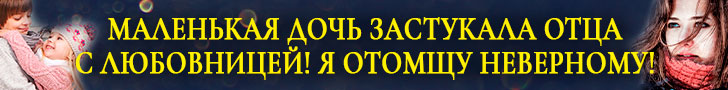У Верёшкино
У Верёшкино
Ивану нравилось, как скрипит его сапог. Он даже старался шагать по дороге так, чтобы в скрипе можно было расслушать песню — навроде «будут новые победы, встанут новые бойцы».
Слева на груди у него, на отглаженной гимнастёрке вторым весенним солнышком сияла медаль «За отличие в охране государственной границы». Люди в городе, и стар, и млад, когда примечали её сияние, начинали тепло улыбаться, а когда поднимали глаза и ловили белозубую Иванову улыбку — улыбались ещё радостнее. Это в городе-то, а что будет в Верёшкино!.. Он не писал домой толком ничего, предвкушая, как встретят, как заахают — и как-кому он что расскажет! Нарочно туману в последнем письме напустил про то, когда ждать следует! Поди готовиться только начали, если автолавка по тем же числам заезжает.
Статься, теперь и гордая Катеринка из правления на него иначе смотреть будет. И девчонки с фермы тоже.
Иван сдвинул на плече лямку рюкзака, дабы не давила, и провёл ладонью по широкому чистому лбу, поправив пилотку. Отпустить бы после армейского ёжика чуб как прежде, чтоб глаза, лучистые да ясные, ещё лучистее и яснее были!.. Решено: Катеринки ради есть «отпустить»!
— И-ииэх! — воскликнул Иван, не в силах больше справляться с распиравшей его радостью и во всю мощь молодецких лёгких, без пальцев, умеючи, минуты на три без перерыва засвистел — пронзительно, прямо Соловей-разбойник.
Свист ударился о только очухавшийся после холодов пролесок со свежей хрустально-зелёной листвою и откатился вниз к оврагу, в осоке которого прятался ручеёк, приток будущей великой русской реки. А на другом береге скоро покажется Верёшкино… Первым, как всегда, будет рябиново-красный дом тёти Наташи, Натальи Митрофановны.
Очень худая, очень древняя старушка в неизменном — и в зиму, и в лето — сером пальто и в глухом коричневом платке лёгкой тенью раз в два дня приходила с бидонами к колодцу возле Иванова дома. Маленький Иван тогда выбегал к ней с криками: «Тёть Наташ, давай помогу!..»
Её давно увёз к себе племянник, в одночасье покидав в тракторную телегу все тёть-Наташины сундуки, чугунки и прочий скарб… Крепкий рябиновый дом же её остался стоять. И будет долго ещё тут стоять.
«Съездить бы к ней, — подумалось Ивану, — узнает ли, если жива?»
Интересно, что на другом, дальнем крае улицы стоял дом почти такого же рябинового, но больше оранжевого тона — Москвичёв дом. Москвич сам звался Москвичом только потому что женат был на москвичке. Он тоже боле не жил в своём верёшкинском доме…
Сапог или, скорее, портянка внутри сапога сбилась и начала больно натирать ногу скрипу в такт, отвлекая от размышлёния о Верёшкино.
— Зараза, — чертыхнулся на это Иван и стал, не сбавляя шаг, высматривать по дорожной обочине место посуше, чтобы сесть, снять сапог и перевязать портянку.
Но передумал. Где-то — Иван никак не мог по эху от пролеска понять где, сзади него или спереди — рычал мотор грузовика.
Дорога была абсолютно пуста, и за всё утро это первая машина. Если шофёр догонит, то Иван попросит подбросить к Верёшкино. Быстро выйдет, с ветерком. Так что сапог потерпит.
«ЗиЛок? — Иван принялся гадать по рычанию мотора. — Похож, да…»
Реденькая травка с жёлтыми звёздочками мать-и-мачехи по обе стороны просёлочной дороги прогревалась солнцем и, дразня, намекала, какими запахами будет сено этим летом кружить голову, дурманить, навевать крепкий сон после тяжёлой работы… Дом приближался, и открытая улыбка волей-неволей снова кралась на скуластое лицо Ивана. Ничего, даже треклятый сапог, не могло омрачить ему этот весенний день.
* * *
— Не могут дорогу сделать! — доругивался Михалыч, нервно проворачивая баранку своей фуры.
Гружёная «Скания» вынуждена была объезжать ремонтируемый участок трассы «Москва-Минск», трясясь по ухабам просёлочной дороги-дублёра. К тому же сейчас совершенно пустой и безлюдной. Встрянет он тут, и кто, когда и за сколько его вытянет? А сроки по грузу горят, счёт уже на часы идёт.
По радио пресыщенно-ленивый голос очередного шибко умного толкал что-то за то, кому на Руси жить плохо, под ленивое же дирижирование ведущего… Михалыч плюнул — нервы только треплют! — и переключил приёмник на следующую волну.
— Он знает лучше всех, он может рассказать, — баюкающе зашептала из динамика Таня Овсиенко, — что наша жизнь — шоссе, шоссе длиною в жизнь.
Узкая, в две полосы лента этого самого недошоссе бежала то вниз, в логи-низины, то взмывала вверх, на холмы, поэтому приходилось газовать почём зря. На битый асфальт тянули длинные тени безлистые развесистые деревья, прячущие за собой по-весеннему слабое солнце.
В одном месте, на бельевой верёвке, протянутой между особо крепкими стволами, колыхались вырвиглазные пляжные полотенца. Грудасто-попастые девицы на них соседствовали с Аладдином и Жасмин из диснеевского мультфильма, разнообразными тиграми и лунными заводями с лебедями.
— Тьфу, — Михалыч от такого срама снова плюнул в сердцах, забыв, что на водительской двери его «Скании» красуется не менее, а то и более полногрудая Сабрина Салерно.
Продавца полотенец нигде видно не было. Даже он, похоже, ушёл отсюда, бросив товар.
Мелькнул щит-указатель о том, что скоро заправка и стоянка для отдыха. Михалыч повеселел даже… Не всё так плохо в жизни нашей.
Едва он подумал, что людей теперь встретит только на заправке, как впереди на дороге показался человек.
Поначалу завиднелась просто маленькая точечка. Тёмная, смутная из-за закатного света. Потом она стала по мере хода фуры расти, расти…
Михалыч долго вглядывался, прежде чем понял, что человек направляется в ту же сторону, что и он.
Это был совсем молодой парень, судя по тонкой шее, не кряжистый ещё — несмотря на то, что очень заметно хромал и помогал себе при ходьбе палкой, выломанной из придорожных кустов и очищенной от коры-прутьев.
Шёл он в разбитых сапогах, со старым бесформенным армейским рюкзаком над поясницей, с непокрытой головой. Не по сезону без куртки или бушлата, в одной старой гимнастёрке почему-то, щедро умызганной грязью, ровно как штаны с сапогами. И штаны, и гимнастёрка были велики, размера явно на три, болтались на парне мешком точно на пугале.