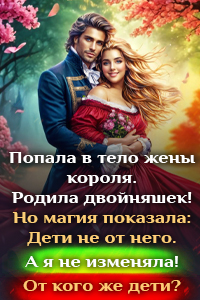Усадьба по ту сторону холма
I
Позвольте мне не знать того, чего я не знаю.
I
Под утро графу приснился неприятный сон. Ему снилась большая полутёмная комната, а если точнее – его собственная библиотека, а если ещё точнее – западная стена библиотеки, та самая, в которую был некогда вделан сейф, где более полувека назад хранились бриллианты, а сейчас на месте сейфа зияла чёрная дыра, ощетинившаяся битым кирпичом – так вот, ему снилось, что из этой дыры хлынула мутная морская вода, и что ему пришлось взобраться на стол и удерживать над головой несколько особенно ценных книг-инкунабул, потому как один коллекционер обещал за них большие деньги – а других источников дохода, кроме продажи книг из собственной библиотеки, у графа не было. Вода быстро добралась до столешницы и через мгновение серой пеной закипела у щиколоток. В воде кишели медузы. Граф ненавидел медуз. Его от них тошнило. Из-за этого он и проснулся. Пробуждение почему-то состоялось не в спальне (где всегда было холодно, но зато привычно), а на крыльце графского особняка (где было, естественно, намного холоднее, чем в спальне, и, уж конечно, гораздо непривычнее). Граф поудобнее уселся у запертой двери своего дома, поднял жёсткий воротник изъеденного молью плаща и принялся неторопливо обдумывать, в силу каких причин он встречает новое утро вне стен особняка, когда полагалось бы под защитой этих самых стен - весьма, кстати, сомнительной: в доме протекала крыша, во всех верхних комнатах. Раньше в тех углах, где текло, граф расставлял прекрасный нежно-белый, на просвет слегка прозрачный китайский фарфор, по одному сервизу на каждую комнату, но все сервизы давно пришлось продать, и расставлять больше было нечего. Впрочем, были ещё ржавые кастрюли на кухне, но их граф презирал: они своим видом оскорбляли графское достоинство.
Подобрав ноги, граф сидел возле запертой двери собственного дома и размышлял о странном начале нового дня. Небольшой проблемой было то, что он не помнил окончание дня прошедшего. Совершенно не помнил. Графа это слегка озадачило. Ему подумалось, что раз он не помнит, как закончился вчерашний день, то это вовсе не означает того, что день так и остался без полагавшегося ему вечера. Если граф по каким-то причинам вечера не увидел, то наверняка этот потерявшийся вечер видели другие хотя бы в какой-то степени мыслящие существа, которые могли бы рассказать графу о том, чем же всё-таки вчерашний день завершился. К разряду мыслящих существ, находившихся в пределах досягаемости, относился только сторож, живший во флигеле. Но сторож был существом, во-первых, крайне примитивно мыслящим, во-вторых, сильно пьющим, в-третьих, он еженедельно обворовывал графов особняк (и делал это очень незамысловато: ходил по комнатам с рюкзаком, куда складывал всё, что под руку подворачивалось), правда, граф не был на него в обиде – со сторожем хоть можно было поговорить и услышать что-то в ответ. Уже за это граф был ему благодарен.
Граф плотнее завернулся в длинный плащ и стал думать о стороже. Сторож был мерзким типом, если говорить совсем откровенно – самой настоящей скотиной. Однажды граф подробно объяснил сторожу, кем именно граф его считает; сторож же пригрозил сбросить графа, старую такую крысу, в пересохший колодец на заднем дворе, если тот ещё хоть раз позволит себе неодобрительно высказаться в адрес сторожа. Пересохшего колодца граф боялся, и потому с тех пор предпочитал держать своё мнение при себе. Дело было в том, что в колодце водились змеи. Это уже само по себе было страшно, а то, что некоторые змеи имели почему-то по две головы вместо положенной по законам природы одной, было ещё страшнее.
А сторож вёл жизнь самую разнузданную. Каждые три дня он уезжал на старом подержанном автомобиле в город, возвращался пьяный и весь остаток ночи орал песни, мешая графу спать.
Иногда сторож приводил женщин. Женщины пугались огромного мрачного дома, а сторож пугал их ещё больше, когда начинал им врать, будто по дому бродят привидения. Графу нравилось наблюдать за женщинами, в то время как они маленькими робкими шажками ходили по комнатам его дома и, щурясь в полумраке, разглядывали потемневшие за столетия портреты предков графа; скучающие дамы и строгие меланхоличные господа, в свою очередь, смотрели на пришедших с плохо скрытым презрением и, казалось, готовы были отвернуться, освободись они хоть на миг из-под многовековых чар живописца. Обычно граф тихо следовал за новой гостьей, со смутной мыслью о том, что его витиеватые повествования о славном прошлом его рода показались бы этим женщинам куда интереснее, чем плоские шуточки сторожа. Женщины не слышали шагов графа, а если какая-нибудь из них случайно оборачивалась, он замирал в тёмной нише, и она ничего не замечала, принимая его, должно быть, за очередной портрет. К женщинам граф относился с опаской и никогда не заговаривал с ними, потому что глаза у них были или звериные, или пустые, как у статуй в парке. Один раз пришла девушка, у которой глаза были почти человеческие, и он, бесшумно выйдя из-за колонны, поприветствовал её и был до немоты поражён тем, что она изо всех сил завопила: «Привидение!» и дробным стуком каблуков ссыпалась вниз по лестнице. Удивлённый граф внимательно рассмотрел на просвет свою руку: она была бледной, как мел, сухой и тонкой, как осенний лист, но прозрачной она точно не была – нет, рано ещё ему становиться призраком. Девушка сбежала из усадьбы, и сторож сильно разозлился. Он пришёл к графу с ружьём и долго по-всякому обзывал его, покуда граф кротко взирал на тяжёлый ствол, угрожающе покачивавшийся у него перед глазами, тускло блестевший, с маленькой чёрной дыркой в преисподнюю. Всё же убивать графа сторож не стал, иначе потом ему не на кого было бы ругаться. А сторож любил ругаться. В городе за это дело могли набить морду, в усадьбе же можно было ругаться безнаказанно. Сторож обзывал графа крысой, стервятником и мешком с костями. Как-то раз граф рваным кружевом манжеты зацепил канделябр, смахнул его на пол, и от свечей загорелся ковёр, так сторож после этого происшествия не упускал случая напомнить, что граф такой кретин, каких ещё свет не видывал, - а между тем граф свободно изъяснялся на десяти языках, прочёл тысячи книг, и пальцы его ещё помнили лёгкий бег по желтоватым клавишам рояля в погоне за стремительными мелодиями менуэтов. Сторож с самодовольной усмешкой двадцатилетнего называл графа патлатым уродищем и старым чучелом – тогда как изысканный средневеково-испанский профиль графа был достоин кисти самого взыскательного живописца, а длинные его волосы, те, что ещё не поседели, были прекрасного тёмно-каштанового цвета. Собственно, граф вовсе не был стариком, но иногда ему казалось, что он прожил на свете безумно много лет.
#4319 в Разное
#293 в Неформат
#18331 в Фэнтези
#2659 в Городское фэнтези
Отредактировано: 18.05.2016