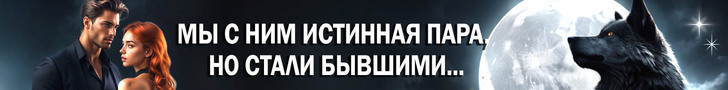В ожидании
8 марта, вторник, утро.
8 марта, вторник, утро.
Я проснулась от храпа возле своего уха и запаха потного тела. Вернее, не проснулась, а очнулась – голова раскалывалась от выпитого накануне, во рту была Сахара. И эти звуки! Я застонала: нет, только не это! Опять на те же грабли!
Мне даже не надо было открывать глаза, чтобы понять: я в благословенной общаге нашего универа, в комнате 205, а рядом храпит Саша Братник, мой первый мужчина в этой жизни. Таковым он стал пять месяцев назад тоже после хорошего возлияния на 4 ноября, которое в общаге почему-то праздновали с красными флагами и революционными песнями. Саша был третьекурсником факультета физической культуры, чьи комнаты располагались на втором этаже огромного здания общежития, и не обладал данными Аполлона. Он был небольшого роста, плотного телосложения, коротконогим, с деформированным на татами мясистым носом и при этом жутко обаятельным и заводным молодым человеком. А ещё Саша был лидером-гитаристом университетской группы «Недоразумение». Я заприметила его ещё в начале первого курса, но именно как музыканта, а он положил на меня глаз с совершенно определёнными намерениями.
Вообще-то, я уже третий год влюблённо страдала по его одногруппнику Пашеньке Маймину, высокому черноволосому красавцу с утончёнными чертами лица. А досталась в качестве приза Братнику. А ведь мои закадычные подружки предупреждали: когда мы пьём в общаге, не надо потом искать приключений на свою задницу в длинных и полутёмных коридорах. Помню, когда я впервые очнулась в этой самой комнате почти полгода назад, у меня болели ноги, болел низ живота, болело всё внутри, а на краю кровати сидел довольный Саша и гладил мою голую грудь. Я тогда жутко смутилась и попробовала натянуть на себя простыню, но не тут-то было. Братник моментально пресёк эту попытку:
- Поздно пить боржоми, детка. Дай полюбуюсь.
И мне вдруг стало всё равно, я попыталась вызывающе потянуться, но тут же сморщилась и сжалась в клубок от тупой боли, пронзившей всё моё тело. Это не укрылось от Саши.
- Что случилось?
- Ну, ты, Братник, нахал! Изнасиловал пьяную девушку и ещё спрашивает.
- Вообще-то, ты была не против.
- Интересно, как ты это понял, если даже я ничего не помню? – я не смогла удержаться от иронии даже в такой не очень для себя приятной ситуации.
- А на хрена тогда ты пошла со мной?
Я честно напрягла память.
- За сигаретами, - вспомнила я, - меня же там девчонки ждут с сигаретами!
- Угу, ждали – вчера. Сейчас шесть утра, - добавил он, усмехаясь.
Я приподнялась на локте и внимательно посмотрела на него:
- Братник, ты понимаешь, что до этой ночи я была девственницей, а сейчас даже не помню, как всё прошло?
Он отмахнулся от меня:
- Что я, целок не видел!
Я тогда просто выпала в осадок.
- Ты мне не веришь?!
- Нана, детка, а ты сама посмотри, - и он, не колеблясь, запустил свою руку мне между ног и тут же показал открытую ладонь:
- Ты чиста! Крови нет.Не знаю, кто тебя распечатал, но явно не я. Конечно, ночью ты была бревно бревном, но если столько выпить, то иного и не жди.
- Братник, ты урод! – язык еле ворочался, меня мутило, но почему-то вовсе не было обидно, что он мне не верил. – Дай лучше воды и обезболивающего – ты мне всё внутри разорвал, урод.
Он, не стесняясь своей наготы, пошёл чуть враскачку, как моряк, к навесному ящику возле двери искать таблетки, потом налил воду в большую кружку и повернулся ко мне. Вот тогда я и увидела его большой… нет, просто огромный член, висящий в завитках чёрных волос, и охнула.
- Ни фига себе! А какой же он в стоячем положении?
Братник самодовольно улыбнулся:
- А ты не помнишь?
- Идиот! Ты лишил меня девственности, а теперь стоишь и глупо улыбаешься? Статью за изнасилование ещё никто не отменял.
Улыбка сползла с его лица, и он осторожно присел на край кровати, озадачено оглядывая меня:
- Эй, ты чего? Серьёзно? Не было изнасилования, сама, по доброй воле, так сказать…
Я откинулась на комковатую, пропахшую всеми запахами общаги подушку и обречённо махнула рукой:
- Не ной! Сама дура, понимаю. Но что бы ты мне тут не пел, а распечатал меня именно ты. Чёрт, я это как-то по-другому себе представляла: цветы, свечи, шампанское…
- Но никакой крови нет! – продолжал настаивать мой незадачливый ухажёр.
- С этим ещё разберёмся, у Муры знакомый гинеколог есть – он всё объяснит.
Я потянулась к телефону.
- Ты что, в шесть утра собралась ему звонить? – забеспокоился Саша.
- Ты, смотрю, тоже вчера набрался не по-детски – мозги до сих пор включить не можешь. Я хочу знать, кто мне звонил и где мои девочки.
- Где они могут быть? – проворчал Братник, укладываясь рядом. – У Люканиной в комнате дрыхнут.
#22927 в Любовные романы
#3703 в Короткий любовный роман
#5144 в Эротика
#5144 в Романтическая эротика
любовь, красивые герои, студенты жизнь
18+
Отредактировано: 07.12.2018