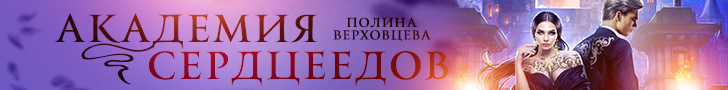Вечность внутри стен
11.4
Непременно, двадцать восьмая страдала от боли – мир вокруг неё трепетал и рвался хрустящими тонкими швами. Когда-то почти яркая, живая и полная надежд, она осталась тенью любого прошлого – прозрачная кожа обескровлено бледнела, кровь марала одежду и оттеняла её не существующее стремление к спасению, которого уже и быть не может. Это лучше, чем быть сырьём для испытаний – так её не пронизывают колкие надменные взгляды, а в рот не суют противные таблетки, горчащей коркой покрывающие глотку. Для неё ведь каждый бесценный миг – несуществующая надежда, которая убивает болезненнее пуль в животе.
Она видит пустоту в их глазах и мутные плёнки, скрывающие зрачок и радужку – в их же работах так отличали мёртвые, совсем пустые и выгоревшие души, потерявшие свой ориентир и стирающие всё из-за ничтожной безбожной страсти. И ей жаль их больше, чем себя – её кончина длится не так долго, обрывает всё в определённый миг и не тянет болью под рёбрами, звоном в ушах и паникой. Она освобождает от всего, что взвалилось за последнее время на хрупкие плечи. Их же скорая смерть мучительно долго дразнит собою – полосует морально, чтобы потом физически, сотнями игл впивается под кожу и горит, горит, горит огнём вспыхнувших слабых нервов.
– Ох, – семь тысяч двадцать девятая прикрывает ладонью рот и вздыхает, – помогите же ей! – в её голосе тысяча лишних оттенков и океан искреннего непонимания. Словно уже и не люди, лишённые понимания и сочувствия, окружают раненую двадцать восьмую, так отчаянно ловящую рваные нити жизни. У них на лицах запоздалое понимание и откровенный безжизненный ужас, так ранее не свойственный, въевшийся твёрдой колючей маской под кожу – шов ко шву под тонкой бледной плёнкой, исписанной сосудистой сеткой. Когда-то – она помнит и хочет забыть так отчаянно, как хотят забыть самый страшный кошмар, длящийся вот уже столько лет – она так смотрела на трупы товарищей, бледные и вечно мёртвые тела запоздалых, слишком искренних мечтателей. У них на глазах оставалась мутная плёнка, они были слишком холодными и слишком не естественными – замершими в последнем мгновении, которое так и не успели завершить.
Вокруг лишь паника, робкая надежда и проблески вчерашней мечты – тонкие, почти невесомые, оставшиеся когда-то слабой тенью на ровном пространстве выдуманного неба. Их шёпот раздаётся из углов, пронизывает прошлую тишину искрящимся громом и проедает в вечности дыры – зияющие, с оборванной бахромой и горькой кромкой. Для них это всё – не игра и не очередной рассказ, так иронично подчёркивающий их настоящее и будущее. Для них это верная смерть и слишком много сюжетных поворотов в столь коротком отрезке времени. Словно это правительство – плохо продуманные персонажи, лишённые логики и причинно-следственной связи, забывшие часть себя и рисующие на лицах улыбки старым тусклым маркером.
– Сзади... ограждённая территория, к которой им сложно будет добраться, пока мы заперты изнутри. Территория перед главным входом изолирована от задней части, на которой хранят мелкий инвентарь. Если поспешите, все, то успеете спастись. В двадцати минутах отсюда, на юго-западе, – её голос сбивается, а руки слишком дрожат, немеют и опутываются сетью болезненного волнения от самой груди, – есть заброшенный квартал. Если его взорвали, то охрана должна была уйти туда, чтобы всё проверить. Можете скрыться в жилых кварталах в этом же направлении – там так сразу искать не будут, можно переждать часа два, пока не хватятся, да и то среди гражданских вас могут не найти, если хорошо спрятать номера. На окраине ходят редкие автобусы, если поспешите, то успеете. Последний отправляется к морю около восьми часов... – женщина говорит на одном дыхании и затихает, словно шумные помехи на радио, искажающие эфир. И голос её такой же надломленный, звонко пустующий, словно лишённый любого значения. Очаровательный. Давно не цветущий. Отчаянный. Серый.
У этих детей нет сил бороться, да и желание меркнет с каждой секундой – они срываются и убегают в глубь здания, туда, к запасному выходу, как только понимают, что и к чему. На полу остаются клочки твёрдой грубой ткани, что до красноты натирает кожу, а в их жизни вновь расцветает надежда, утраченная одним серым днём. Одним из тех дней, в которые они не видели жизни, а просто жили – глупо, свободно, вырывая призрачные крылья призрачных бабочек и забывая о времени. Им хочется жизнь и ненавистное цифры въедаются в кожу пятнами их проклятий, яда, горечи – тысяча дней под беззвёздным небом, под горячим проливным дождём, проникая в каждую клетку и сменяя цвета, не избавит от клеймящих проклятых узоров, от мучительных уз, которыми им суждено быть скованными. Словно они – старые печальные узники, давно не мечтатели, подсевшие на глупые дешёвые наркотики, насильно влитые им в кровь. Вместо крови. Виток за витком, тёрпкая горечь и сменяющая ей горячая страсть – глупая, безразличная и безраздельная.
Для благополучного исхода жертвы требуются в любой ситуации – маленькие или большие, не важные или самые ценные. Святые или порочные. Вечные или секундные. Палачи, безжизненный мужчина и испуганная собственной решительностью женщина, и двадцать восьмая, придерживаемая нулевым, остаются внутри. Выгоревшие в своей надежде. Звеняще пустые. Внутренне давно мёртвые. Такие, какими сделала их жизнь за несколько проклятых месяцев в границах высоких каменных стен, ограничивающих их свободу и вечность.
Новый мир дрожит, грозясь расслоится, так и не сформировавшись. Их мир дрожит, распадаясь горящими клочьями давно забытой памяти.
#33135 в Проза
#19327 в Современная проза
#28052 в Фантастика
#2085 в Антиутопия
Отредактировано: 26.10.2016