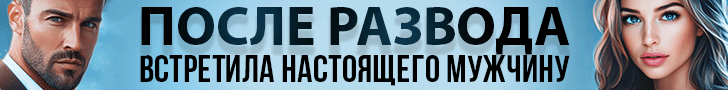Весна для агонистов
Весна для агонистов
Massa damnata, то, что кажется идеалом, трудно отличить от самообмана (от горстки белёсого пепла). Даже весной, когда аромат сирени проникает до самого сердца и тёплый ветер играет с росой на влажной траве, нужно помнить, ecce — cogitatio, неузнанная полость c Ideal self, и то — страх потерять самость, принцип «Я», или, по крайней мере, не запечатлеть в памяти основательно, — сентиментально и эгоистично.
Слишком «по-человечески».
Металлический столик, по которому тонкими струйками извивалось вино, был весь заставлен пластиковой посудой: тарелками, стаканчиками и вилками. Посередине стаяла картина безымянной художницы. Луч света озарил комнату, и вслед раздался сдавленный, но взволнованный голос, как из глуши громадных деревьев:
— Сирень расцвела. Надеюсь, никто не будет срывать слишком много. Хотя, я бы парочку бутонов с собою взяла.
— О, и вправду. — Таков ответ. — Каждый год в этот день ты сама не своя.
Лиза разочарованно покачала головой, уставилась на него, не понимая, как можно, после прочтения ей стольких стихов и рассказов, наконец не проникнуться самому этой историей.
— Брайан, послушай, не можешь сказать ничего хорошего…
— Лучше вообще ничего не говори. — Перебил он.
Брайан ушёл в угол комнаты, раскрыл шкаф и стал неторопливо примерять изъеденные молью футболки.
— Модник.
— Ну что?
— Ты прям так в университет пойдёшь?
— Придётся.
— Где твоя любимая рубашка?
— Порвал вчера. Мы с Майклом повздорили, вот я и…
— Не продолжай. Всё как обычно.
— Что? Ты обиделась? — Спросил он с чувством выполненного долга. — Несправедливо.
— Связываешься с задирами, постоянно дерёшься, а потом удивляешься, чем же я недовольна.
— Элизабет, я же парень, мне можно иногда позволять себе лишнее.
— Нет, Брайан. Нет. А несправедливо — по отношению ко мне.
— Как скажешь. — Заявил он, — не без доли безразличия, свойственного для философа-материалиста, или типичного прагматика, которого потряс след (ржавчины на поверхности) общепринятой железной догмы.
Уязвлённая гордость — спешит, отмеряет.
И тем более, что она была новоявленным идеологом пацифизма, боролась за «мир» всеми доступными средствами. По крайней мере, хотела так думать, растрачивая половину бюджета на борьбу с бесчестием и лицемерием и, конечно же, в своём соперничестве со стереотипами, — в лучших традициях греков-агонистов.
Rebus, non verbis и, больше того, особенно ясно, что мир материален, когда на тебя наставляют дуло винтовки. Доверчивый человек, почитав Аллена Гинзберга, как-то заявил, что война — то, чем живёт США, и постоянные операции во Вьетнаме правительству на руку. Впрочем, ничего нового.
В ноябре 1965-го года Гинзберг написал одно из своих лучших эссе (вершина магического реализма), настаивая, что участвующие в антивоенных митингах должны вооружаться цветами, чтобы превратить подавленное чувство тревоги — в насмешку, а протест — в безобидный уличный театр.
Furor Teutonicus, выступления, бунты, что, a priori, — полны негодования.
Доброта и искренность — нежный трепет, что толкает к исканию, — вряд ли можно назвать «выдающимся достижением» в обществе (негласно теперь согласятся лишь единицы, хотя и будут утверждать во весь голос обратное, чтобы не показаться циниками, больше, чем есть).
Жаль тех, кто не понял, что жизнь — не самоценность, но возможность улучшить её, отдалить неизбежное. Как и задача художника — не скопировать портрет, пейзаж, в целом, увиденный образ, но дополнить его, преобразить.
Как внезапная нужда — отправиться куда-нибудь, в место, далёкое от праздника боли, и разгадать вечную тайну, отыскав хрустальный покой. Самая поэтичная песня — приветствие весны, когда надежда кажется достижимой и мечта обретает смысл, призрачный, но, всё же, смысл.
Не время для разговоров — шанс распеть величайшую арию, попробовать болезненные пристрастия и вслед отказаться от них. Будто и ты — агонист, сопротивляющийся навязыванию стереотипов и всяких обречённых стандартов.
Бывает, праздничное настроение и непреодолимое желание прикоснуться губами к божественной амврозии, вследствие потери ощущения кипящей жизни вокруг, сменяется на мольбу к остывшему солнцу и рассвету в утренней мгле.
Приходит печаль, а с ней — горечь, жгучая, как забродившие соки, неприятное послевкусие юных грёз и наивных мечтаний. Утончённо и чувственно, vince te ipsum, tu fac in...
О, рождение трагедии в немощных объятиях мысли!
И только целомудренная ласка сможет доказать самоуверенному нигилисту, что иногда нужно вспоминать о смирении и тосковать об узниках, на которых не хватило своевременного сострадания у минувших эпох.
#11473 в Проза
#4657 в Современная проза
#6163 в Молодежная проза
#606 в Молодежная мистика
Отредактировано: 28.01.2020