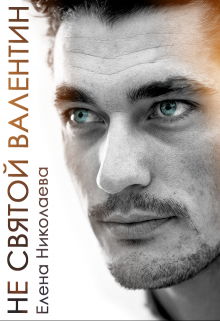Восемьдесят тысяч мыслей вокруг, да около плиты
Восемьдесят тысяч мыслей вокруг, да около плиты
Кок дноуглубительного судна «Дейма» Ячменев проснулся по заведенному на айфоне будильнику ровно в половине пятого утра. Проснулся в поту. И еще целый час он отсрочивал подъем, каждые десять минут тыча в экран нежно щебечущего вольными птахами и умиротворенно журчащего лесным ручейком, телефона. Так не было задумано, но Алексей Андреевич в такие моменты припоминал слова мудрого матроса Ивана из былого двадцать восемь лет назад рейса. Ваня имел два высших гуманитарных образования, и с присущим сладким похрюкиванием во время речи однажды со знанием дела изрек:
- Пять минут дрёмы – хр-р! – заменяют час сна.
Ячменев тогда внутренне согласился – очень уж соблазнительно было в условиях вечного морского недосыпа подремать – покемарить каких-то сорок минут – похрюкать сладко в подушку, или в фуфаечку, что сбросив с себя, на транспортере в выдавшееся затишье рыбцеха подстелил - похрапеть: вот и наверстал время суточного сна!
Но, тогда мОлодец Ячменев недосыпал по своей воле, то ли весело засиживаясь за чаем с товарищами, то ли осоловело таращась в экран «видика». А теперь – уже девятый день подряд – пожилой ныне человек спал по пять с лишним часов оттого, что все прочее время было занято работой.
Причем, работой второпях, где нельзя было остановиться ни на минуту, и каждую же минуту висящей над Ячменевым боязнью не успеть.
Впрочем, ему ведь менеджер по кадрам, что ведала комплектованием морских экипажей, сразу сказала с милой улыбкой: «Легкой жизни я вам не обещаю». А он весело гаркнул в ответ: «Я и в прошлом рейсе работал по шестнадцать – восемнадцать часов. Костьми лягу, но сделаю все, что возможно, и даже чуточку больше! Живым – не сдамся!».
«Проотвечался», ветеран? Вот, теперь с кряхтением поднимай свои кости и двигай со скрипом на камбуз!
Пышущая здоровьем женщина в ходе собеседования с Ячменевым сказала еще: «Приходят к нам с «рыбаков», пяткой в грудь себя бьют, а попадут на судно – через неделю списываются». «Ирина Сергеевна, - напустив серьезности в проникновенный баритон, и даже брови домиком сдвинув, ответил тогда Андреевич, - я планирую проработать здесь до самой пенсии, а то, - он улыбнулся, - и дальше. Поэтому…»
Нет, дружище – с такой работой до пенсии ты вряд ли и дотянешь!
А еще кадровичка сказала тогда:
- Повар – это такая деликатная должность: не просто должен сделать свою работу, а так, чтоб и понравилось всем. Всем угодить – вот в чем дело.
Ячменев согласно покивал золотым тем словам, вставив и свое справедливое: «Ну. всем-то угодить – знаете сами – невозможно… Но, будем стараться!».
Все эти мысли пронеслись спросонок в его голове в какое-то мгновение еще сомкнутого ока. Ячменев слышал в культовом фильме «Секрет», что за день голову человека посещает до восьмидесяти тысяч мыслей.
А время между тем было уже тридцать три минуты шестого. Как рано, и как поздно! В принципе – самое время Ячменеву было умирать. Ни поздно, ни рано! Правда, теща, когда он сказал ей о такой готовности, только отшатнулась в испуге: «Господь с тобой! Даже и мысли такие из головы выбрось!». А он ей всего лишь сказал о том, что счастлив был бы умереть за любого из них – за нее, за старенького уже и тоже больного, хоть и все еще мужественно бравадного тестя. И уж конечно за их дочь, что больна уже четвертый год неизлечимым раком, что накидывается почему-то на самых добрых и чистых людей мира сего. А он, Ячменев, уже пожил, уже счастлив полностью, и несчастлив одновременно теперь уж до конца жизни – этого он, правда, теще не добавил. А просто сказал: «Но это невозможно, так давайте жить долго и мирно!». «Да, умеешь ты говорить!» - искренне восхитился тогда тесть. Но Андреевич не блефовал: была бы возможность такой рокировки, махнул без раздумий и сожалений – как вполне разумевшееся. Он Светлане говорил о том еще до известных, случившихся этим летом, событий. Правда, тщательно избегая слова «умереть» - пусть она его даже и не слышит! «Я бы забрал всю твою боль если б то было возможно».
Ему и вправду было до самых дальних уголков души и сердца жаль и этих двух стариков, что жили всегда лишь своей единственной дочерью, и теперь могли ее потерять и пережить; и саму ее, что так любила жизнь (которой, всегда признавал Ячменев, толком с ним и не видела), и так боялась смерти… И эта боль щемила и жалила его эти дни безостановочно.
Впрочем, в море первые дни и даже недели всегда и у всех душа скулит.
Когда Ячменев наконец окончательно разлепил глаза и увидел уже посветлевший за занавешенным полотенцем иллюминатор, мысли теснились сплошь мрачные и пораженческие. Уже давно пора было вставать и спешить во все лопатки разворачиваться на камбузе. А он безвольной куклой с ватными руками лежал еще в постели и не очень, честно, верилось мужичку, что найдет он силы встать, и сможет вот этими двумя тонкими руками переделать настоящую бездну работы – и все бегом, все без остановки.
Он поспал чуть больше пяти часов, и такая история уже девятый день – как только ступил он на борт судна, так и впрягся – взамен увальня с рыхлым задом и растерянными глазами, с которым на короткую минуту и свиделись во время буксирной пересадки.
Теперь бы Ячменев сам за миг блаженный почел точно так, как предшественник, с худой сумкой на плече, на борт буксира сигануть: работайте, ребята, дальше, как хотите – только уж без меня!
Хоть деньги, опять же – такие преогромные, и так они сейчас всем нужны: и сыну, и жене его многострадальной, и им с Мариной.
Но, нельзя было бежать самому – если бы капитан списал, как предыдущего повара, то было б другое дело! Хоть вся жизнь, наверное, оттого бы точно также перевернулась, вернее – покатилась безнадежно вниз: туда, откуда Ячменев уже не смог бы выкарабкаться наверх. Но, все равно – так бы он сказал всем вкруговую: «Я делал все, что мог. Но – фос-мажор!..». Но, его никто пока не гнал, и нельзя было малодушничать – перед самим собой, главное дело: он отступил бы перед трудностями впервые, по большому счету, в жизни, и помнил бы это потом уж всегда.
Не надо было заканчивать жизнь поражением!..
«Это не работа – это просто издевательство над человеком!»
Так говорил его трюмный сменщик тринадцать лет назад, когда еще матросом работал по контракту Ячменев на иностранном рыбаке – «пылесосе». Да, в его жизни уже был один такой рейс, когда от непосильной работы какие только мысли в голову не лезли! Потому как, тамошняя работа в трюме была не на пределе физических возможностей – за пределом тех. И Леша, разносящий и укладывающий в трюме по шестьдесят тонн мороженой рыбы (три тысячи двадцатикилограммовых коробов) каждые сутки, за две вахты шестичасовых, до сих пор не мог объяснить даже себе – не говоря уже кому-то! – каким образом он успевал коробки эти растаскивать, и как не подох на такой работе.
И сейчас ему подумалось, что там, в трюме, было не так уж плохо – во всяком случае, вахты шесть через шесть, время отдыха и сна законно, и высыпался он конечно больше (верней, конечно, будет сказать: меньше недосыпал). И проще – по работе-то: таскай, вали, громозди свои коробки неудобные, а не угождай совершенно, пока, вслепую изысканному вкусу капитана, да и экипажа – еще не знаешь ведь, что они любят, а времени утвердиться классным поваром – лишь день текущий.
Впрочем, одно другого стоило: Ячменев не забыл бешеного биения сердца и задыхающегося хрипа от бешеного темпа работы в том трюме, когда хотелось выпростаться из всей одежды, да и вылезти из кожи вон.
Как и по деньгам – стоило тогда «уродоваться», в смысле – горбатиться. А когда годом позже навеселе обмолвился супруге, что застрахованы тогда моряки были на случай смерти, или увечья на тридцать пять тысяч долларов каждый, и ничего бы страшного не случилось, если бы она с сыном эти деньги по тому самому случаю получили, Светлана лишь в сердцах обрезала: «Дурак! Ты нам живой нужен!».
Сейчас Ячменев нужен был им еще больше. Но они уже были порознь. «Я не очень понимаю, - сказала в конце августа этого года Светлана, - зачем ты возвращаешься? Я смотрела по интернету: Томск – это такой перспективный, развивающийся, самобытный город! Ищи себя там!» - «У меня здесь, в этом городе учится сын, и я обязан принимать в том участие».
Сын поступил в университет на платное – не хватило баллов по ЕГЭ, на факультет, название которого Светлана не могла не то, что выговорить, но даже запомнить (впрочем, после стольких сильнодействующих лекарств и химиотерапий с памятью происходят необратимые процессы – увы!). Что-то с компьютерами и менеджментом – обычная история. Сын с нерадивым папашей теперь общался принципиально сквозь зубы – тоже понятно…
Ячменев, наконец, откинул влажное одеяло – все запредельные сроки подъема прошли, и уже подхватывая полотенце (он еще навострился сгонять в душ – ничего пять минут уже не изменят!) вспомнил, до кучи, как от души жаловался ему знакомый здоровяк штурман, с которым были когда-то в одном рейсе, и случайно встретились не так давно в суете городских улиц.
- Стояли в Гданьске на ремонте, приехал второй механик в рейс. Нахерачился как-то под вечер, давай спьяну жене звонить. Ну, та ему естественно наговорила, вставила – кому понравится? Он пошел – в машине повесился!.. Нет – ну, ты вот зачем сюда, в Гданьск ехал – чтоб повеситься?.. Че – дома не мог? Мы потом – каждый! – столько бумаг писали!..
Нет – Ячменев сюда, в Тамань, не за этим летел, точно не за этим!
Тамань, кстати, эта родина тестя – так Светлана сказала: «О, на родину папы полетишь».
Водные струи весело взяли в оборот раннего посетителя душа, хаотично закружив его под гуськом то против, то по часовой стрелке.
Выходит, каждое судно хранит свой внутренний климат – как не крути! - если просыпаться в поту в первые ночи Ячменеву случается постоянно во всяком рейсе. Адаптация!
Ячменев наконец рассмеялся – уже хороший знак! Вспомнил «старика» армейской службы, который рассказывал про умненького земляка с их призыва, что давно уж комиссовался, тогда как они, дураки, все лямку тянули: «Блин, вот кого бы встретил – убил сейчас!.. Привезли нас сюда молодыми, деды давай сразу гонять. А он : «Мы еще не адаптировались!». Нам тогда такую адаптацию дали!..».
А что – правильно ведь говорил тот вумник! Другое дело – служили они в дикой дедовщине, где любое грамотное слово каралось общей серостью жестоко.
Водяные струи сделали свое дело – достаточно взбодрившийся Ячменев даже ощутил какую-то силу в своих руках, которым столько предстояло переделать за день: теперь уж – за работу!
Вовсе не просторный камбуз (впрочем, на этом судне все теснилось очень компактно) еще был тих от шкворчания сковород и бухтения кастрюль. Но тишина эта, как сказал бы иной мастер слова, была обманчивой, а Ячменеву – и вовсе зловещей! Посему, едва завязав за спиной тесемки фартука (сегодня с первого раза удалось), ринулся кок в гущу дел, коих было – край непочатый.
Перво-наперво, надо было пожарить яичницу человек, эдак, на десять: Ячменев уже понял по первым дням, что не все тринадцать (он был четырнадцатым в экипаже) моряков на завтрак встают – кто-то спит после ночной вахты. А еще – нарезать на опустошенные ночной вахтой тарелки сыра, колбасы, копченостей, сала: чтоб его так кормили, когда он матросом был! Впрочем, прибеднялся Андреевич сейчас напрасно: еще «жирней» на том самом приснопамятном «пылесосе» питались.
А еще и кашу надо было между делом сварить – вот это уж действительно морока! Капитан сразу ему это наказал: есть, мол, люди, которые дюже с утра кашу уважают. Людей этих, как уже выяснил себе Ячменев, было два с половиной человека: матрос с электромехаником ели постоянно, и кто-нибудь еще от случая к случаю присоседивался. А каша эта – если только не манная – полчаса времени у Алексея Андреевича отнимала – мешай, не отойдешь! Кашевар, конечно, переключался по ходу дела на что-то другое, и отбегал, ясно, в салон, но через минуту он должен был возникнуть у плиты с кашей вновь – чтоб помешать капризную, и неблагодарную: она же еще и «плевалась» в конце, руки творца своего обжигая!
Случалось, и обеими руками работал: одной кашу помешивал, другою кастрюлю под воду подставлял, или еще что-то гоношил.
Ну что ж – надо, так надо: с этого первого одолжения экипажу начинался его день. Каша, и вправду капризная, словно ребенок, что внимания требует постоянно, через раз случалась то солоноватой, то густенькой, но ели ее неизменно, как неизменно и благодарили. Боялись, видимо, без нее остаться. И верили, наверное, что получится она однажды у Ячменева без изъяна – обязательно получится!
Но сегодня каша была манной, так что стоять над ней полчаса – помешивать было ни к чему, только момент и не прохлопать, когда в кипяток засыпать одной рукой из пакета будет: чтоб тонкой струйкой сыпалось, а второй рукой энергично и с душою успевать размешивать – чтоб, значит, без комков. И руки береги – чтоб не быть оплеванным.
А еще хлеб – тоже боль головная! – в хлебницах посмотреть, черствый отобрать, «свежий» порезать.
Хлеб был покупной, с берега, и хранился в морозильных камерах. Поэтому, с вечера его надо было заранее достать.
Насчет хлеба Ячменев капитана и старпома заверил: будет он сам печь, только муки надо заказать побольше.
- Потому что - режу этот хлеб, и плачу!
- Ну хорошо, если у тебя, говоришь, получается, - с некоторым еще сомнением поглядывая на нового кока, откликнулся на почин капитан. – Тогда попробуешь, и, если что – только серый хлеб с берега брать будем.
- Так, э-э, серой муки заказать – я и серый печь могу!
- Ты, немножко силы соразмеряй, - посоветовал молодой усатенький старпом. – Спать-то когда собираешься?
Да, «делов-то», с хлебом тем – как раз-таки между делом! Семь минут Ячменеву тесто в кастрюле на четыре-то булки хлеба завести, а потом – само оно и поднимется, само и в формы ляжет (Андреевич умелыми руками только помнет его слегка ), само и в хлеба испечется – лишь проследить. Да вытащить потом из плиты – минута, - и укрыть бережно – половина минуты той: вся недолга!
Дружил Ячменев с тестом. Любил хлеб печь. И тесто ему тем же отвечало. И хлеб на диво пышным выпекался.
Но, батоны белые, и булки серые, зачерствелые (только гляди – чтоб не заплесневелые еще!) были только половиной хлебных мытарств. Хлебницы, хлебницы – где их только надыбали? - вот что убивало каждый раз! Капитан, впрочем, в первом же разговоре с Ячменевым вдруг похвастался: «Хлебницы новые заказал». Не уточнил, правда, когда это было. Ибо плетеные хлебницы сыпались своими прутьями сами, из них же при малейшем прикосновении высыпалась горка хлебных крошек, так что – хлебницы только коснулся: можешь смело уже стол вытирать. Поэтому, полотенце на плече и тряпка в руках у Ячменева были и когда он накрывал на столы, и когда он с них убирал.
А еще хлебницы эти кутались в мягонькие пакеты целлофановые – чтоб хлеб не сох, - которые обязательно цеплялись за торчащие в разные стороны прутья хлебниц и рвались – как и сердце Ячменева, когда за все это безобразие он поневоле брался. К тому же, пакеты были чуточку коротки, и укутать в них хлебницу добротно никак не получалось – краешек все равно оставался открытым, а значит хлеб все равно благополучно сох. Поэтому, новые хлебницы – контейнеры Андреевич себе в черновичке заявки вписал первым делом.
Сколько драгоценных минут на пустом месте терялось! И труд мартышкин совершенно.
И сейчас не теряя времени, Ячменев поставил на ближнюю конфорку кастрюльку для каши, на задние же установил две объемные сковороды.
«Как у тебя на сковородках – не подгорает? – поинтересовался как-то капитан. – А то твой предшественник жаловался, что нет нормальных сковородок с антипригарным покрытием, а на этих – прилипает, и поэтому у него отбивная подгорелая».
Нет – Ячменев пока со всем скарбом и оборудованием ладил – спасибо им: если бы они еще козни строить начали!..
Восемнадцать яиц (пяток из которых, как водится, растеклись желтком) скоро запыхтели на двух сковородах. Вот-вот уже должна была закипеть и вода на кашу, хоть засыпать манку было еще и рановато – загустеет до половины восьмого. И Ячменев, расслабившийся на какие-то мгновения, моментально ушел в свои мысли – все еще безрадостные с утра. Думалось о том, что ему едва пошел еще шестой десяток, а силы уходят, как под камушек вода. И будет их все меньше, а жизнь вокруг будет становиться все стремительней и жестче, и никому до стареющего работяги не будет дела – загибайся, как хочешь! Учиться надо было, да? Да, надо было, конечно. Ну, так его с детства учили – родители, брат, учителя, люди, вся жизнь тогда вокруг. И он впитал все, как губка, заучил добросовестно. И потому позабыть своих первоистин не смог.
С самого детского сада вбивалось везде: «Все работы хороши. Выбирай на вкус!». Да и вправду – какой-нибудь работяга тогда законно «заколачивал» больше иного инженера. Да и он, Леша, собирался учиться – обязательно! – вот, только в море сходит несколько раз…
Надо было, конечно, по морской стезе, хотя бы, высшее образование получить. Но, опять же – разве он думал всю жизнь здесь проболтаться? А теперь придется – на берегу сейчас с заработком туго - как, впрочем, и всегда. А до пенсии еще «бомбить и бомбить»: как раз накануне пенсионный возраст повысили. И пропаганда какая сразу по новостям центральных каналов пошла: как счастливы-то работающие пенсионеры, да с каким энтузиазмом это непопулярное решение правительства поддерживают!
Сухощавые, седовласые ветераны, коих выискали-таки дотошные журналисты, вовсю пытались разжечь жизнерадостную искорку в выцветших глазах, рассказывая, как рады они работать и работать, трудиться и трудиться, пахать и пахать!.. И не пенсию – ни-ни! – выходить даже и не думают: чего там делать?
И вправду – с такой пенсией делать абсолютно нечего!
А ему, Ячменеву, теперь еще на жилье зарабатывать надо: это помимо того, что жене и сыну все равно помогать – весомо, не символически.
Вот и выходит - если его сейчас турнут с этого судна – по капитанской ли прихоти, или свалится он, как загнанная лошадь, в этой гонке почти что круглосуточной – то только и останется, что вернуться на свою дачу и там уж прозябать до конца дней: к Марине он пораженцем не покажется, не поедет.
А на даче, кстати, вполне можно жить – Ячменев этой осенью в том убедился. Только, щели в полу большие – зимой замерзнет конечно.
Туда и дорога!
Стрелка между тем катастрофически подползала к роковым двадцати пяти минутам восьмого – завтрак грянет через пять минут. Все, вроде, было готово к раздаче и расставлено на столах. Но сейчас припрется, следом за веселым, разбитным стармехом и молчаливым матросом в «татухах». занудный боцман, в дурном, от наступления нового рабочего дня, расположении духа (впрочем, этого смазливого парня, что годился ему в сыновья, Ячменев ни разу еще в работе не видел) и будет совать нос в масленки со своего, и капитанского стола, высматривать и какие-то другие «косяки». Вчера он уже «наехал» по поводу этих масленок: «Ты их хоть мыл раз? Мы же не свиньи, все-таки!». Но Андреевич резонно спросив через раздаточную амбразуру, куда он каждый раз неиспользованное масло девать будет, вышел по такому случаю в салон (в котором, впрочем, сидели лишь боцман с лепшим своим другом и земляком - матросом- сварщиком) и веско сказал:
- Хорошо – масленки: поправим! А где, скажи мне, я еще к вам, как к «свиням» отношусь?
Боцман не нашелся что ответить.
Ему бы и вовсе молчать! Это же боцман «сдал» капитану незадачливого кока предыдущего, что проспал, с усталости пятнадцатичасового пути на судно, в первый же день завтрак. Так что, чего уж ты вякаешь: помог отправить домой того парня, так вкушай теперь от того, кого взамен прислали – не давись, пережевывай тщательно, с аппетитом проглатывай!
По ходу утра Ячменев несколько раз принимался читать свод своих молитв, но все не мог завершить – то надо было что-то посчитать, то ускориться в нарезке – а неспешное чтение процесс тормозило, - а то вдруг чертыхнуться совсем другой матерью на упавший с предательским звоном половник на палубу, или с шипением выплеснувшее через край сковороды масло на плиту. И тогда уже, Алексей Андреевич, не греши – начинай молитву заново!
Стрелка уперлась в половину восьмого, и тут лучик солнца пробился к Ячменеву сквозь овальный иллюминатор: судно подвернуло. И посветлело на душе у нашего кока: он делает все, что может – честно, с душой, - а там уж – как получится!..
Эх, да где его не пропадала? Что там те десяток человек – в пять раз больше обозленных тяжким трудом моряков в прошлых рейсах рыболовных на амбразуру камбузную напирало!
Однако, сегодня обошлось – тихо и спокойно прошел завтрак и все восемь пришедших едоков поблагодарили повара, непременно присовокупляя к «спасибо» еще и «Алексей». Буркнул что-то подобное и боцман. И оттого, что завтрак отработан (хоть, конечно, предстояло еще убрать со столов и помыть посуду), день вкатывался в привычное русло, по которому Ячменев уже более-менее научился рулить, и вполне можно – и нужно даже! - было, не теряя темпа, вовсю браться за приготовление первого (щи сегодня), Андреевич воспрянул, наконец духом. «In for a penny, in for a fount. – сделано на пенни, можно сделать и на фунт» - Ячменев всегда отдавал англичанам должное за исполненные жизненной силы и точной мудрости поговорки (отмечая объективно, впрочем, что одной из них :«Честность – лучшая политика», - чопорные британцы сплошь и рядом следуют с точностью до наоборот). Восемь дней уже отработано – с недосыпами и «напрягами», - но закрыто, оборвано в календаре. И завтрак сегодняшний уже закончен. И осилит он и этот день, а вечером ухмыльнется про себя, в сон уже спасительный без задних ног проваливаясь: «День прошел, и слава Богу» - как «деды» в армии учили.
Опять эта армия на ум пришла!.. Ячменев четко увидел длинный коридор казармы с фиолетовым линолеумом и стоящих на нем в два ряда сослуживцев. «Деды», как водилось, стояли по правую сторону от выхода – согласно расположению своего кубрика, «черпаки» с «молодыми» - по левую. А у тумбочки с перепуганным дневальным грозно расхаживал в шинели и при папахе сам комдив – генерал-майор! Тут же переминались с ноги на ногу командир роты, замполит, дежурный прапорщик, и поднимал на кого-то время от времени пронизывающий взгляд старший лейтенант – явно из особого отдела. Ждали его – Лешу Ячменева…
А он примчался чумазый, в робе – прямо со смены в кочегарке, и забежав казарму не стушевался – сходу выпалил: «Товарищ генерал-майор, разрешите обратиться к товарищу капитану! Товарищ капитан, рядовой Ячменев по вашему приказанию прибыл!».
- А ну-ка, шельма, - загромыхал генерал, - прочитай-ка нам, что тут написано!
И сунул под самый нос конверт – вскрытый – с каким-то экзотическим штемпелем и латинскими буквами обратного адреса.
Ячменев сразу понял – письмо от нее… Но, как же она его нашла на другом конце света, в такой-то глухомани.
Читай, читай – мы-то уже, - комдив обернулся на востроглазого старлея, - прочитали на досуге!
Генералу было всего сорок один год, и был он страшно настоящий, правильный, справедливый. Он уже раз врывался в их казарму – когда избитый дедом молодой с призыва Ячменева (и земляк его) угодил в медсанбат, и гремел страшно – тогда на командира роты:
- Товарищ капитан, я запрещаю вам ставить молодых на смены!
- Никак нет, товарищ генерал-майор, - отважно отвечал тогда отчаянный трус Василий Васильевич, - мне некому тогда будет топить.
Но сейчас Вася, как уничижительно называли командира деды, и черпаки, молчал, и по обыкновению щурил близорукие глаза на Ячменева, что всегда ничего хорошего объекту пристального капитанского внимания не сулило.
Шумно вздохнув, Ячменев принял конверт, и с едва заметной дрожью руки потащил из него тонкий листочек.
Предложения были односложны, и смысл вполне понятен: сплошной «корасон» - сердце, значит.
Ячменев переводил и читал. На ходу вводя свою цензуру – за такие слащавые признания в любви заморской красавицы от дедов непременно ломилось получить чуть позже – когда командиры разойдутся, причем – от души. Налегал на то, что девушка теперь, после встречи с ним, другими глазами смотрит на Страну Советов – далекую и удивительную… Но, когда он пропустил одно предложение, «особист» чутко встрепенулся:
- А про ночь там что написано?
Значит, перевели уже!..
- Ну, тут пишет, что никогда не забудет ночь эту.
- Значит, - громыхнул генерал, - ночь ты с ней все-таки провел!
Признание могло стоить Ячменеву визы на все времена.
- Так, э-э, разве дня-то хватит – чтоб про нашу страну необъятную рассказать? Вот – ночь и пришлось прихватить.
Ячменев спиной чувствовал восхищенные взгляды дедов. Генерал же, глядя на чумазого солдатика, заломил голову круто набок – так, что левое ухо почти коснулось золотого погона. Конечно, будь они со стервецом с глаза на глаз, он бы, возможно, по отечески-командирски и шмякнул «с легонца» промеж глаз. Но на миру…
- Ну, - суровая улыбка наконец набежала на лицо комдива, - ты хоть там державы не припозорил – мощь нашу показал, как положено?
- Как положено, - в тон подхватил Ячменев, - а как же! Ну, а как я должен был поступать, когда расспрашивали о стране нашей? Надо же правду рассказать! Вот, теперь, видите – так очарованы, что письма пишут!
Письмо то ему отдали – начиналась уже Перестройка. Как и фотографию – ее еще до прихода Ячменева навскидку показал особист сослуживцам: счастливый юнец притягивал за талию заморскую красавицу со смуглой кожей, алыми пухлыми губами и пышной грудью третьего размера.
Фотографию деды у Ячменева, по уходу генерала и офицеров, выцыганили, и больше он свою красавицу не видал – затерли старики промеж собой: такие нравы… Насели, кстати, и на него:
- А чего ты молчал, что в Аргентине был?
Вам скажи! Дали бы потом – адаптацию местную!
О, а Ячменев уже почистил восемь картошин, две луковицы и морковку – можно было вовсю гоношить щи, что задумал с вечера! Вот как на крыльях мечты, что уносила не в будущее, но в прошлое, воспарил он над камбузной суетой!
Да это ведь он себе представлял в мечтах – не было той «вечерухи» с генералом, не было и письма с признаниями и откровенным фото на память. И в Аргентину он попадет только спустя четыре года, и лишь милыми улыбками ограничится его общения с действительными красавицами – сеньоритами Буэнос-Айреса. И не мог он до армии пойти в загранплавание – никакой оказией: лет еще было очень мало. Но, да в этом ли суть? Суть в том, что раз за разом фантазируя себе все тот же эпизод, он вырывался из серой безнадеги первого полугода службы, он возносился над серостью, тупостью и уродством, что безраздельно правили в королевстве кривых армейских зеркал.
Что было ему противопоставить дурной силе? Только и улететь мечтой в иные, заморские дали – туда, где л ю д и живут.
А он и в реальности сорвался в те самые дали из той самой казармы серой, что и внешним своим видом барачным, и внутренними устоями с тюрьмой разнилась не слишком (только, в тюрьме ты все равно можешь за себя стоять, а в их роте первые полгода службы – даже руки «не моги» поднять для защиты).
Это ж Василь Василич присоветовал Ячменеву ехать к Балтийским берегам – коль решил тот в моряки податься, - а не на Дальний Восток, как задумывал солдат сначала.
- А почему ты хочешь в Находку? – вертя в руках бланк присланной Ячменеву характеристики-рекомендации, щурил взор Василь Васильевич: рядовой Ячменев был у него на хорошем счету. – Почему не хочешь в Калининград?
- Так, там же это – Прибалтика!.. Национализм к русским.
- Кто тебе такое сказал? Калининград – это РСФСР! Так, это - Европа!
Вася там, видно, тоже послужил, и дюже ему понравилось – если так нахваливал. Была, конечно, разница между городом европейским и ПГТ Гвардейским в степях среднеазиатских. В общем, принял участие в судьбе Ячменева отец – командир. Часто потом этот момент моряк вспоминал: не его это был город, не его! Но никогда при том ротного не винил – сам выбор делал. Да, и Находка с девяностых начала хиреть, и теперь загнулась уж окончательно.
А Ячменев только-только разогнулся сейчас, и крылья мечты за спиной расправил! И пусть мечты были о прошлом, но ведь только в мечтах и можно прошлое изменить. Изменить и поверить – так оно и должно было быть!
Он бы уже давно подох, пропал по своей неприкаянной жизни, если б не мечтал!
Ячменев знал о том вполне, и потому свои мечты не только не гнал сроду, но даже и призывал в самые трудные моменты - как Ангела Хранителя. Но гораздо чаще – сплошь и рядом! – тем белокрылые мечты приносились к нему сами.
Темп нарастал – уже закипали кусочки мяса в суповой кастрюле – надо было не прозевать момента снятия пены. Потому что, если не прохлопал, успел пену в закипающей воде снять – уже удача!
Удача – она так ему нужна сейчас! Ему, выходящему уже на четвертой минуте матча Бразилия – Россия на «Маракане». Акинфеев зацепил вышедшего с ним один на один Неймара, и конечно – пенальти, конечно – по нынешним временам, изгнание нашего вратаря с поля: чемпионат мира – 2014.
Россия проиграла первый матч в своей группе – разгромно. Опять Португалии, опять - 1 : 7. И теперь надо выигрывать кровь из носа – даже ничья при такой разнице оставляет нашу команду за бортом. Надо обыгрывать кудесников мяча на их поле на глазах бразильских болельщиков, что гонят свою команду разнести попавшихся на пути к кубку мира несчастных русских и досрочно оформить выход в плей-офф.
А Ячменеву всего-то семнадцать лет – и откуда он такой зеленый? Да, из юношеской сборной! Третий вратарь получил травму перед самым вылетом, вот Федерация Футбола и запросила у ФИФА замену. Удивительно, но те согласились: «Кто был заявлен резервным вратарем?». А Ячменев – подающий большие надежды вратарь молодежки – и был заявлен – для галочки: какая функционерам была разница – все равно, ведь, не придется пацану лететь.
Получилось – пришлось! Срочно вылетел он на край света, за семь морей. И два часа назад лишь прилетел – не выспавшись после такого долгого перелета, не отдохнув толком. Тоже надеялся, что не придется на поле выходить – подрагивали, конечно, коленки!
Как и сюда – на «Дейму» - вылетел он срочно: «Капитан там – козел: ему угодить невозможно. Мне начальница отдела кадров говорит: «Если он плохо готовит, капитан тот спишет через неделю»» - «Ну, они сейчас все – козлы!.. Попаду на другой – не факт, что там не будет хуже» - «Молодец – правильно мыслишь – одобрил ход мыслей Ячменева представитель крюнинга, в котором и сватался Андреевич на работу, - значит, вылетать тогда надо будет уже на днях».
И полетел – к другому, Черному морю, - хоть и подрагивали коленки…
А почему второй вратарь на замену не вышел?.. Да, тоже, наверное, травму на вчерашней тренировке получил – что за напасть такая: рок, прямо, над сборной нашей висит! Вот, Капелло и пришлось пацана необстрелянного, которого он и в глаза до того не видал, в такой ответственнейший момент выпускать.
Фабио вообще не позавидуешь: такое поражение накануне! Но, Ячменев его прекрасно понимал: хоть и искушенный мастер с Аппенинского полуострова, но, да ведь не из каждого полена можно сделать Буратино – особенно, если вокруг сплошь дубки средней полосы России.
Но, выходит на поле Ячменев (зло покинувший поле Акинфеев не удосужил его не только рукопожатием – взглядом: кто мальчишка такой?), бежит к воротам, и безо всяких, там, касаний к штангам или перекладине, без перекреста напоказ, становится на ленточку ворот и руку, в локте согнутую, поднимает судье - мол, готов.
Разбегается Неймар, заносит ногу и поднимает глаза, глядя, куда в этот неуловимый миг вратаришко-воробьишко дернется, куда завалится. А тот все стоит по центру – присев уж для прыжка, конечно, и так на мяч выжигающе, да глаза округлив, пялясь, что и страшновато становится: не схватил бы парень косоглазия на всю жизнь! Ячменев-то помнит: он до любой точки ворот допрыгнет – дотянется, так что лучше стоять, не дергаться до удара – не гадать!.. Бьет Неймар – прицельно в правый от себя угол, сантиметров двадцать от земли мяч летит. И Ячменев в тигрином броске забирает мяч намертво!
Вообще-то нет – намертво, сиганув «рыбкой», он возьмет мяч, точно летящий после удара кого-то из бразильцев головой в «девятку» гораздо позже – минуте, пусть на семьдесят пятой. Точно так, как взял мяч в далеком 1979 году вратарь рубцовского «Торпедо» - тоже молодой еще парень, что вышел на замену уже в первом тайме, сменив в воротах ветерана, пропустившего два мяча.
- Мы уже тренера нашего на матюках таскаем: чего он этого все выставляет, когда такой пацан у нас есть! - откровенничал с местными болельщиками на трибуне заезжий рубцовец. Тот, что при выходе команд на поле не побоялся встать во весь рост и крикнуть во весь голос:
- «Торпедо», я с тобой!
- Ну, и сиди себе, пока сидится! - недружелюбно откликнулось сразу несколько голосов с разных сторон.
Вратарь тот юный стоял и вправду замечательно. Но, тоже пропустил дважды. И рубцовцы уступили хозяевам – «Востоку». Зато, болельщик тот горластый небитым ушел. И отзвонился кому-то прямо с телефонной будки на остановке: «Проиграли: два – четыре».
А на «Маракане» по нулям!.. Потому что дотянулся Ячменев рукой левой, ближней, до мяча, хоть сейчас сплошь и рядом вратари дальней рукой дотянуться до летящего мяча пытаются. Но, у Ячменева с левой стороной, за которую левое полушарие мозга отвечает, все в порядке: он и с левой ноги бьет – будь здоров!
Это правда – левой ногой Ячменев в пору юности футбольной научился лупить ничуть не хуже, чем правой – как «с земли», так и с лета.
Итак, отбит «пендаль». Отскакивает мяч в поле, и у игроков полевых даже нет возможности поблагодарить восторженно вратаря за пенальти взятый: побежали новую атаку бразильцев срывать. Да, и не надо помпы – весь матч еще впереди!
Эх, теперь пошло-поехало – когда пенальти-то он взял: картошка для супа в одно мгновение, нарезалась! А еще туда же – пара луковиц и морковь большая: пассеровать. Теперь держись!
Никак нельзя без куража тут справиться: ни с бразильцами горячими на «Маракане», ни с готовкой спорой на камбузе!
Теперь держись! Теперь хозяева чемпионата полны спортивной злости – разбудил, называется, лихо! Теперь порвут они команду в футболках кирпичного цвета, как Тузик грелку.
«Не боись» - трус не играет в хоккей: Авось, отобьемся!
И Третьяк конечно, здесь, рядом – образец счастливой вратарской судьбы. Он, вслед за великим Яшиным и великолепным Дасаевым, стабильно в тройку лучших вратарей у Ячменева входил. Ну, и что, что вратарь он хоккейный: «Трус не играет в хоккей» - это Андреевич говорил и говорит себе по жизни: то ли переминаясь у кромки поля в ожидании выхода на поле на стотысячной «Маракане», то ли подступаясь к рецепту нового блюда на судовом камбузе.
Авось и сладится у Ячменева здесь на камбузе, как заладилось дело нынче – вот, уже и пассировка на суп – румяная, да поджаристая! – готова: пусть в сковороде постоит пока еще, потомится. А ты поспевай уже – картошку в бульон забрасывай.
И мячи поспевай перехватывать – в любой ситуации успеть Ячменев должен!
Успеет – время-то только начало десятого, а первое уже почти готово: сейчас, картошка закипит, тогда Ячменев и капусту только что порезанную забросит (у него такая система была), а следом уж пассировку, «посОлить – попЕрчить», лаврухи листочка четыре – вот и готово будет первое, даже пробовать не надо: за котлетки подхватывайся!
Главное, чтоб собран и внимателен он оставался – ничего б не проглядел, везде бы поспел.
А тут уж и первый тайм пролетел: «сухим» Ячменев из него вышел, хоть столько сейвов сделал! Один удар метров с семи восьми – когда оставили бразильского нападающего с ним с глаза на глаз, - перевел в броске на угловой: точно в левый от вратаря угол мяч летел. Точно так Березовский однажды мяч отбил безнадежный: оттуда-то этот подвиг вратарский Ячменев в свои мечты и перетащил. А вот в том моменте, когда он, змеей по газону извившись, перехватил пас вдоль ворот, который наверняка голом бы закончился – сразу несколько бразильцев на мяч набегало, - это Ячменев из своего уже вратарского опыта притянул…
Они тогда на поле у школы играли. И вот также с фланга сделал передачу нападающий, но Леша, стоявший в этот раз в воротах, ее «прочитал» и вышел вовремя на перехват. Мяч, правда, как раз на уровне живота – удобной для вратаря высоте – летел, но получилось все равно эффектно. Так, что одноклассник, что был сейчас на поле в команде соперников, даже языком восхищенно цокнул: «Блин, красиво!».
Двумя этими голевыми моментами бразильцы, конечно, не ограничились – весь тайм на воротах сидели! Били без устали с любых положений и любой дистанции (иногда и просто – на дурака), но – все как об стену горох: все Ячменев отбил- забрал уверенно.
Да, вот – горох еще надо на завтра замочить: на суп гороховый. Но, это уж вечером поздним, в самом конце дел нескончаемых.
И тайм второй с бразильцами – нескончаем… Не переходим уж на чужую половину – в меньшинстве же играем! Вратарь наш, конечно, чудеса творит, но да – уж немного к тому и привыкли. Хоть, и екает каждый раз сердце – выдержит ли до конца пацан, не поймает ли «бабочку» напоследок?
Нет – он ловит мячи и справа и слева, как мешает Ячменев порой с обеих рук сейчас пассировку на сковороде, и картошку в супе: только успевай разворачиваться! Так ведь, заспорилось дело, пошло твердо к окончанию победному.
А ничья нас абсолютно не устраивает, хоть в такой ситуации она за благо!
И вот – второй пенальти… Защитник обыгранный, падая, просто упал на мяч рукой.
Все – теперь точно забьют: в таком матче чуда дважды не случится.
А щи, между тем, поспели! Теперь – усмехнулся про себя Ячменев, народ голодным не уйдет никак – хоть первого похлебает. Значит, не быть ему биту!
А вот с пенальти сложнее: два взятых «пендаля» за матч!..
Но память Ячменева хранила такой подвиг – своими глазами тогда он все видел. Михаил Цыбривский– вратарь команды его родного города - взял два пенальти: Ячменев ведь тоже то не выдумал - только что, футболку вратарскую, что размера на три больше (здоровый был Миша – медведь!) на себя натянул, да на «Маракану» в ней завалился. Из самой второй лиги, в которой играл «Восток», да еще тем жарким летом, к неописуемой радости болельщиков своих, и лидировал – небывалое совершенно дело: чудо невиданное! Потому, как глянешь тогда на таблицу, и глазам не веришь: первый… Ну точно – он: «Восток»!
Но настигал уже мастеровитый, искушенный в борьбе за верхние строчки в таблице «Актюбинец». Вот в июньский воскресный вечер в очной встрече они и зубились. И Цибривского, перешедшего только что в команду из другой, еще толком и в глаза никто не видел. А занял он вдруг место в таком матче ответственнейшем – матче лидеров! – в воротах вместо импозантного Жоржа Родионова (с его сыном малолетним Ячменев в одной футбольной секции занимался) – Жорика, горячо всеми любимого. И отразил два пенальти. Леша хорошо помнил оба – в правый, удобный, в общем, для вратаря угол их пробили, и парировал оба вратарь. И если во время пробития первого – тогда и счет еще был равный – надежда маленькая жила у болельщиков (и дико взвыли через секунду они от восторга), то во втором тайме, когда уже проигрывали и повисла некоторая безнадега, никто подвига уже от своего вратаря не ждал: два пенальти отбить – так не бывает!
Бывает, как оказалось –еще как бывает! И хоть проиграли тогда минимально – 1-2, но уходил Цибривский, смущенно лицо пряча в ладонь – якобы пот утирал, чистым героем. А какой-то болельщик, что от скамейки запасных гостей близко сидел, уже после свистка навтыкал напоследок второму их тренеру:
- Дикобразы (иное чуть, сознаться, прямой речью слово сказано было, хоть и созвучное весьма) вы – ди-ко-бразы: пенальти бить не умеете!
Но только это, с горяча и не по делу, высказать и оставалось: по делу выиграли гости, лучше они играли - в пас, главным образом, - осмысленней и мастеровитей. Это Ячменев, проведший матч на кромке поля в подаче мячей, отчетливо пронаблюдал. А спустя две недели, на своем уже поле, раскатал «Актюбинец» бедный «Восток» под орех – 7 : 1. Так, что в областной газете не сообщили даже, кто гол забил единственный, и таблицу не дали: кончилось лидерство!
И вот тут, на «Маракане», гляди ты – такая же морока получилась: пенальти второй. За шесть минут до конца матча. Слону понятно – если бразильцы сейчас забьют, конечно уж не сможем отыграться.
Ну, упал защитник рукой на мяч – замотали, конечно, бедных бразильцы, что имели почти весь матч на одного игрока больше. Ячменев товарища не корил, а наоборот, кивнул солидно: мол, не переживай – поглядим еще!
А чего тут глядеть – подхватывать по-быстрому – коль уж канитель бравая такая закрутилась! - с верхней полки камбуза, что над раздаточной амбразурой, коробку с мясорубкой (благо, она собрана заранее – только в розетку шнур воткнуть), да и покрутить в пять каких-то минут, под неровное урчание механизма, фарш куриный на котлеты «Наваляй».
- Кому наваляй, – грозно вопрошал, разыгрывая диалог сам с собой Ячменев, - повару?
И тут же отвечал от второго своего «я» - миролюбивого, покладистого, уступчивого персонажа:
- Да не, не – тем, кто есть не захочет.
- О, это дело!
Ну, знать, и вправду пошло дело – коль Ячменев хохмить сам с собой начал.
Мясорубка тут и правда была – прелесть! В отличие от мясорубки другой, в которую Ячменев теперь угодил с пенальти вторым: кровь из носа, но надо брать!
Никто уж, конечно, на всем свете не верит, что и второй пенальти за одну игру возьмет он – куда там! Потому, какой с него и спрос?
Неймар опять к точке подходит – сполна реабилитироваться!.. Ну. Леша – теперь держись!
Разбег…Замах. Удар!..
А ведь и взял-таки, шельмец – ты посмотри! Ай, молодца! В тот же самый угол, но уже в девятку стрелял Неймар, но пацан опять не дергался – дождался удара, а уж потом, со всей своей тигриной реакцией, взлетел ракетой, как взлетел низенький крепыш Жан Люк Эттори в 1986 в серии послематчевых пенальти с той же Бразилией, и отбил также – лишь коснувшись мяча, что летел со страшной силой, и изменил тем самым траекторию: через перекладину на трибуны мяч прошел. А Эттори-Ячменев покатился по газону героем.
Вот это да!..
Катились одна за одной уже комочки в миску с сухарями – валялись, в одно ловкое движение в котлеты «Наваляй» и превращаясь. Да, всего ничего их навалять – шестнадцать, чтоб с запасом, штук. А и сковородку на плиту ставить впору – чтоб накалялась уже. Как страсти на «Маракане» - неужели так не забьют- не закатят звезды мирового футбола мяч щенку этому сопливому?! Вот, налетает с фланга атака, и передача вдоль ворот, и у защитника в кирпичной футболке едут ноги, он поскальзывается и пропускает мяч на набегающего нападающего, что оказывается в семи метрах против ворот. Все – сейчас вколотит точно: больше мячу деваться некуда! Удар!.. Где мяч?.. Мяч-то где? И Ячменев, что отлетел от могучнейшего удара в самую сетку угла ворот, мотает оторопело головой по сторонам: где мяч?..
Да отбил ты его, отбил! Бросившись скорей инстинктивно и руку правую выбросив просто в направлении удара. И тут – просто повезло! Попал в эту руку мяч, и как от волейбольного блока, срикошетил к облепившим рекламные щиты фотографам, что всем, почитай, скопом мяч в сетке наших ворот вот уж полтора часа караулили безуспешно.
Ноги у защитника киевского «Динамо» поехали вот так на промозглом поле «Астон Вилла» в восемьдесят втором – если Ячменеву память не изменяла – году. И нападающий англичан почти цинично – с расстановочкой - расстреливал ворота Чанова-младшего в упор. Но, переэстэтствовал – в штангу попал. А вратарь в отчаянном броске пытался все же дотянуться до мяча. Печальные остались воспоминания от матча того ране - весеннего – проиграли тогда – 0-2 – и выбыли из Кубка Чемпионов.
Но, тут какая могла быть штанга – тут Ячменев на угловой перевел. Побежали бразильцы в нашу штрафную – они же в численном большинстве, и с перепуга кажется, что только желтые футболки сплошь и рябят, и что сейчас, конечно, мяч попадет к кому-то из них, а там уж прямиком – в ворота: куда тому и деваться-то теперь!
Да, так обычно против нас постоянно и случается…
- Ты что, падла, сковородку до сих пор не включил? - кричит Ячменев Грозный бестолковому скомороху, который закружившись головой за тридевять земель, под носом конфорку забыл крутануть – обычное дело!
- Чичас, чичас!
Навес с углового – мяч летит в район одиннадцатиметровой, но в тигрином прыжке (так прыгал красавец Томас Н’коно из Камеруна на мундиале-82 : ну, чистый тигр африканских джунглей!) Ячменев мяч забирает намертво, с ним падает, перекатывается; и тут возникает какой-то краткий миг оцепенения – атака сорвалась, бразильцы на мгновение остановились. И в этот-то краткий миг вратарь вдруг выбрасывает-выпуливает мяч обеими руками перед собой, и «стартанув», как спринтер, с земли устремляется в побег. Ошеломленные защитники, что страхуют зону, опешили лишь на миг, но этого мига хватило, чтобы проскочить их на скорости, а там уж!..
Ячменев однажды уходил от погони также красиво. Ранней, талой весной – в десятом классе. Он бежал от многоэтажки, где жила девушка, которую только что проводил, а за ним вздумали погнаться местные. И, честное слово, потешно было Ячменеву в тот момент – кого, спрашивается, эти подъездные куряки хотели догнать: он всю зиму на лыжах бегал в любую погоду – и в мороз трескучий, и в оттепель солнечную. Тренированные, уже и соскучившиеся по бегу ноги выбрасывали его в каждом шаге, как могучие пружины.
Вот так и сейчас – защитники отставали все больше, и Ячменев стремительно выносился один на один с вратарем, обыграть которого на такой скорости был просто обязан… Ложный замах – вратарь валится влево, Ячменев с мячом бежит вправо и через несколько секунд просто-таки влетает вместе с мячом в ворота. И лишь поймав вытянутыми руками сетку, может остановиться – как легкоатлеты врезаются в оградительные маты на соревнованиях в зале.
Все – гол забит. Забит гол! И первая партия из четырех аппетитных, с румяной корочкой поджарки котлет благополучно укладывается на свободную сковороду.
Под такой-то кураж!..
Вообще-то, первоначально у Ячменева был другой план на этот гол: что, вот, настигают его защитники – настигли уж почти! – и ближний даже толкает в плечо, отчего теряет на мгновение Ячменев равновесие и отпускает чуть мяч от себя. Под эту дудочку и вратарь уже – тут, как тут, и не обыграть его сходу, и мяч не перебросить!.. Но что же наш нападающий, который вратарь? А он – невиданное дело! – вдруг оборачивается и легко обыгрывает на противоходе не ожидавших того, на полной скорости несущихся защитников (один из которых налетает на своего вратаря и благополучно его заваливает) – обыгрывает «назад». Так, как обыграл двоих бразилец Робиньо на чемпионате мира две тысячи шестого года. Комментатор сказал тогда: «Он именно и г р а е т в футбол!». Но, тогда дело голом не закончилось, а вот теперь бы Ячменев спокойно закинул бы «за шиворот» всей этой кучи малы точнехонько в ворота. Но… Цинично бы то несколько было. По- издевательски. С бразильцами – искренними и преданными кудесниками мяча – особенно. Не надо так: пусть он по-людски забьет – по-честному!
Тонет Ячменев в объятиях сумасшедших от радости товарищей: за мячом бы они так бегали, как теперь к нему! Но, это еще не конец фильма – минута-другая и основного времени еще есть, а и арбитр по такому беспределу теперь конечно добавит солидно.
А что здесь у нас со временем – Ячменев через раздаточную амбразуру выглянул в салон команды, на переборке которого висели большие круглые часы. Двадцать минут десятого. В общем, хорошо он идет, поспевает, но мешкать не стоит: чуть здесь остановишься, все – уходит время в отрыв, и с половины десятого оно, сорвавшись «в отрыв», как оглашенное, начнет работать уже против Ячменева. И нужно будет поспешать, чтобы не суетиться, как мальчишке, в последние предобеденные минуты.
Вот и Бразилия бросается в безоглядный, бешеный, почти сумбурный навал – в своем мастерском, великолепном исполнении, впрочем. На последний, должно быть угловой бежит – торопится даже вратарь в нашу штрафную. И после подачи с углового верхом, Ячменев буквально снимает мяч с головы высокого форварда (как Ринат Дасаев с головы рослого Сержиньо в приснопамятном, от восемьдесят второго года, матче чемпионата мира как раз-таки с Бразилией), и, пробежав несколько шагов на относительно свободный клочок в штрафной, нацелено бьет мяч с рук по пустым, на другом конце поля, воротам.
Долетит – не долетит?.. Попадет – не попадет?
Или не надо? Хватит, может, гола одного?.. Котлеток вот точно уже хватит – двенадцать их штук, а многие на обед, подметил себе Ячменев, не приходят – спросонок на вахту заступая, есть совсем не хочется. А ему лишние – зачем: только времени потеря. Он сейчас фаршик оставшийся в пакетик замотает, и – в морозилку. Хоть, будет пакетик этот там, скорее всего, из угла в угол перекладываться-мотыляться, пока не пойдет в ведро мусорное: свежий-то фарш Ячменев всегда заведет.
Да, и с голов вторым – забьет он: все-таки закрепить победу надо, чтоб не злословили иные недоброжелатели, мол, случайным мячом матч выцарапали. А так – 2-0: более-менее солидное уже преимущество в счете.
Летит мяч высоко в фиолетовом уже небе, опускается плавно, и перед самыми, поди ж ты, воротами приземляется на изумрудный газон, а от него отскоком – в сетку.
И свисток финальный через несколько секунд.
А хохмач Ячменев приподнимается вдруг на цыпочки и тянет руки с согнутыми ладонями и растопыренными пальцами к небу: это атлант новоявленный его держит - по уму ведь, упасть на землю сейчас должно, коль наши бразильцев обыграли!..
А после матча Ячменев, у которого уж конечно горячо пожелают взять интервью прямо на бровке поля, веско осадит восторженного журналиста: «Это не я забил два мяча… Это сборная России забила два мяча сегодня: уверяю вас – вы прочтете завтра об этом в газетах. Футбол – игра коллективная, и главное – чтоб победила команда. А кто уж там забил – согласитесь, дело абсолютно второе».
И, наскоро простившись с телезрителями, поковыляет устало, с чувством долга выполненного, в раздевалку – скромняга!
А можно даже так было бухнуть в микрофон: «По народной нашей примете везет-то кому: новичкам, и дурачкам. Посему, у Ее Величества Фортуны шансов шмыгнуть мимо меня не было ни с одной, ни с другой стороны».
Разошелся!.. Но, правда, в общем.
А не пора ли тебе чаю хлебнуть, мальчишечка? Уморился, чай, спозаранок вокруг да около плиты – и через все поле, до самых до бразильских до ворот - бегавши!
Двадцать пять минут одиннадцатого – час с маленьким, пятиминутным хвостиком до обеда. А он уже «делов насовершал»: первое готово, котлеты пожарены, победа одержана. Осталось – гречку на гарнир отварить, и салат какой-нибудь построгать. А сборная на чемпионате пусть уж сама продвигается - воображение Ячменева дальше работать отказывает: в атаке ведь полевые игроки все равно не потянут, что же ему – до самого финала из ворот бегать – забивать?
Он по-быстрому забросил в кружку пакетик чая и залил кипятком: первый глоток был воистину божественным!
И тут Ячменев запел – наконец-то! Запел с середины строки распевочной своей, героической песни:
- Неба у-у-утреннего стяг!.. В жизни важен первый шаг!.. Слышишь, ве-е-еют над страно-ою ветры я-а-а-ростных атак!
Голос у него был хороший. Слуха – никакого. Говорили, что слух Ячменеву надо просто развивать, но, когда уж теперь было – умрет скоро. А вот петь будет до самой смерти. Беря самые высокие ноты – и пусть попробует кто-то на горло его песни наступить!
- И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди!
И не стыдился он никогда своего репертуара – никакая идеология не властна была над молодостью его, весенний ветер которой постоянно песню эту подхватывал.
К тому же – действительно здорово она пелась!
А одиозная фигура вождя мирового пролетариата, воспетая десятками песен, маячила лишь на комсомольском значке, что был символом молодости и надежд.
Правильная была песня!
- И вновь продолжается бой!..
Песенный ритм задавал ритм работе, отдаваясь твердой уверенностью внутри: а, пошли они все – дикобразы! Как приготовит обед, так и приготовит: по-честному он старается. И что уж получится – то и будут есть!
Да, что там – получится?!. Щи у него всегда отменные выходили, и сейчас, на пробу, отличные – а еще и настоятся за час! И котлетки знатные каждый раз получались – как говорил в одном рейсе электромеханик: «Губами есть можно». А почему? А потому что Ячменев секрет нехитрый знал – наставница его первая Полина научила: водички в фарш добавлять – раз! И яйца не класть вовсе - два: «Яйца жесткость придают». А Ячменев теперь воды шуровал на грани фола ( а что ему теперь – он и третий пенальти возьмет, если что!) - чтоб только не разваливались. Правда, котлетки на сковороде частенько змеились трещинками и даже грозили развалиться, но вкуса от того нисколько не теряли.
В преддверии наступающего обеда отвага должна была прирастать, конечно: отряд непримиримых едоков уж скоро на амбразуру налетит.
И каждый прием пищи для Ячменева пока – как бой незримый. И каждые четыре час налет! Да, и не в открытую рукопашную: исподтишка, да со спины упырь боцманюга подобраться норовит. Все огрехи высматривает.
А в таком деле хлопотном – как без них?
Большая стрелка уже поползла на одиннадцать, но маленькая еще не перевалила за половину – затишье выдается мимолетное, в которое много можно – и нужно! – успеть. Потому что, как только переберется стрелка на другую сторону – побежит время, как сумасшедшее: такие, вот, часы были эти!
Во-первых, гречка, которую срочно промыть и ставить варить уже пора: с котлетками свиными, жирком истекающими, в самый раз она будет. Благо, этот гарнир сроду здесь не капризничал и получался отменным на вкус. Добавлял, конечно, полкубика «Магги» Ячменев по ходу приготовления – не без этого. Но, главное дело, плиту он выключал на стадии полуготовности гречки. И, бросив масла сливочного и особенно долго помешав напоследок, закрывал крышкой и оставлял набухать на той же конфорке.
Пару лет назад, на траулере большом рыболовном, отставной полковник танковых войск (если не врал) Василий, который почему-то в море слесарем теперь ходил (аль, пенсии не хватало, аль скука доброго еще, краснолицего молодца заедала), похвалил как-то:
- Гречка у тебя сегодня получилась настоящая – армейская: разваренная такая!
Куда от армии нынче было Ячменеву деваться?!.
Пригорало, конечно, на дне кастрюли – самую малость. Но уж вкус у рассыпчатой гречки был бесподобный.
Впрочем, отмечал себе всегда Ячменев – не в коня корм!.. Кроме Сани – смуглого здоровяка с Дагестана, никто этой гречки замечательной не ценил. А старпом и вовсе гречки не ел – предупредил о том Ячменева он сразу (повар, впрочем, с ужина вчерашнего пару ложек картошки вареной памятливо на этот момент приберег – в холодильнике тарелка стояла, разогреть лишь).
Но, старпом-то здесь врагом Ячменеву не был, скорее, наоборот даже. Неизменно благодарил, по имени при том вспоминая. И Ячменев отвечал тем же («На здоровье, Максим Артемович!»), хоть, признаться, всегда вспоминал и скороговоркой насилу выговаривал это отчество, на его взгляд нескладное совсем, тогда как на языке, как пластинка известного бит-квартета, вертелось: Максим Леонидович.
Главное – старпом никогда не «прихватывал» Алексея Андреевича, хоть жучить повара – прямая старшего помощника капитана обязанность. Но, да капитан упущение это с лихвой компенсировал – каждый день, с едва скрываемым удовольствием.
- Жена, говорит, у него хорошо готовит, - пояснили Ячменеву.
- Ну, так пусть он ее в рейс поваром и берет, - резонно решал тот.
- Не ты первый предлагаешь. Но, говорит, у него в каюте койка для двоих узкая.
Какой там! Через два дня бедная женщина и свалится прямо здесь, на камбузе, от объема работы такого. Даже, если боцману (а тот переложит это на матросов) вменят в обязанность посуду мыть.
Но, Ячменев к капитанскому абордажу был готов заранее. Человек из крулинговой компании об особом капитанском пристрастии к поварам его первым делом уведомил. Поэтому, заранее предупрежденный, заранее в этом смысле вооруженный, прибыл Алексей Андреевич на судно, привезя с собой в багаже маски шута и сатира, клоуна и гаера. Ему ведь и теща, когда доложил Ячменев ей обстановку, пред расставанием сказала:
- Так – язычок на замок!
«Самолюбие – в сундучок», - закончил себе ее мысль Алексей Андреевич.
Так что, по заранее выбранной роли, Ячменев имел перед лицом начальства вид лихой и придурковатый - клоунадничал вовсю. Что же было делать – он просто дал себе установку: роль исполнительного придурка тоже входит в заработок – ведь где такие деньги за труд честный получишь? Компания-то их платит, но тут еще посредник – капитан (узурпатор, вернее), который, числя себя здесь царем и богом, тебе оставляет удел плебея, которому лишь изрядная доля лизоблюдства участь и облегчит.
Чего-чего, а вот лизоблюдствовать Ячменев так и не научился. Понятное дело – уж под старость лет овладевать сим крайне нужным, как он в общем-то всегда знал, на родных просторах умением (навыком?) не собирался.
Капитан высказывал что-то (любой «наезд» он непременно начинал с вопроса каверзного, типа: «А что у нас – огурцов соленых нету?»), а Алексей Андреевич открыто смотря в рыбьи капитанские глаза своим преданно-дебелым сейчас взглядом, зычно каялся (« А – да, да! Виноват – забыл!»), изображал суету в срочное исправление ситуации («Сейчас, метнусь – порежу!»), на ходу клянясь исправиться и сам: «Оправдаю!.. Искуплю». Так, что капитану, только и оставалось сказать вдогонку – ведь смолчать так запросто он был просто не в силах:
- Не, ну мне нравится вот такое: «Сейчас, сейчас!». А сам сообразить ты не мог?
Эх, товарищ капитан! Кабы знать, что душа загадочная нынче за обедом попросит, да на что глаз гурмана Карлик-носа упадет...
Был здесь такой тихушник – третий механик, кореш боцмана лепший. Совал свой шнобель приличных размеров в каждую банку и склянку. Рыбы не ел, и даже от запаха жарехи рыбной парнишечку мутило. По ночам, во время своей вахты, ревизовал холодильники, да на камбузе эстетствовал : гоношил хот-доги, которые считал верхом наслаждения, и смешивал квашеную капусту с маринованными или свежими огурцами – дальше фантазия отказывала? Главное, исправно подкидывал капитану идеи насчет селедки под шубой и холодца. А тот прислушивался, и, создавалось впечатление, даже побаивался мнения самозваного «ревизорро»: первое, вполголоса произнесенное пожелание Карлик-носа, тотчас громко озвучивалось капитаном приказом Ячменеву, который стремглав должен был метнуться приказ исполнять.
Вот этого момента Алексей Андреевич заранее просчитать себе не мог. Как и уже злобствующего на его счет боцмана – двадцатисемилетнего пацана, что недостаток морского опыта компенсировал перед капитаном четким и своевременным докладом обо всем и вся, происходящем во всех закоулках судна. Как кратко подытожил сию деятельность один моряк: «Лижет кэпу аж до горла».
Молодняк! Причем, молодняк поколения потребителей: тот же боцманенок рожден был аккурат в 1991 году…
Да, усмехнулся себе Алексей Андреевич, приди к тем гурманам домой – очень может случиться, что и закусить будет нечем. Был же на его памяти один такой молодой, да прыткий – когда и сам он еще был жгуче молод – весь рейс пальцы гнул: «Да я!.. Да у меня!». А после рейса зашли по случаю к нему выпить – с банкой кильки, что была последней в холодильнике, пировали. Правда, то был девяностый, с абсолютно пустыми прилавками магазинов, год.
Так, а сейчас-то время уже без пяти одиннадцать, а у Ячменева еще не в шубе рукав! Нет, готовы и щи, и котлетки, и каша уже бухтит по-свойски («За меня-то уж не переживай – не впервой, ведь, не подведу!»). Только что масло сливочное в один рывок из морозилки холодильника под боком вытащить, да щедрую половину бруска того с размаха рубануть – заранее. А вот с салатом – опять в пожарном порядке!
С салатом уж этим заколдованным черным каким-то волшебником тоже чудеса каждый раз получались! Вот, хоть бы в половину одиннадцатого довольный Андреевич (можно теперь без спешки построгать!) за него принимался, но что-то, или кто-то, обязательно от этого занятия отвлекали. В итоге Ячменев всегда в спешке дело это завершал. А неудобно еще – выбеги ты в коридор, где за дверкой в переборке располагалась охлаждаемая ниша для овощей, открой эту дверку, выгнись, в картонный ящик за помидорами, что стоит, конечно, в самом дальнем углу, рукой дотягиваясь. Да еще опасайся удара со стороны: входная дверь на палубу как раз по дверке всегда с маха прикладывалась. А сейчас же потянутся уже с палубы, работяги – боцман с «земаном» сварщиком: в девятом часу на работу выбрели, в одиннадцать уже ее свернули.
Но, хорошо еще, что были и упругие огурцы, и помидоры – эти уже чуть квелые слегка: было из чего салат строгать. А кончатся – выдумывай что-то со свеклы и моркови, банки с разносолами открывай, капусту заквась.
На предмет салата капитан тоже в первом же разговоре попросил: «Ну, можно же его резать! А то этот нам только порезанные помидоры с огурцами выставлял.
«Этот» - повар предыдущий. Знать, и у него на салат времени не оставалось.
А еще капусты квашеной, из ведерка, жменю добрую выудить, промыть, порезать, да с лучком смешать, да масла пахучего сверху – еще один салат на стол будет. Капуста была спасительницей – ровно три минуты отнимала, а по салатнице на каждом столе добавлялось – уже вполне себе сносный натюрморт разнообразия глазу. Впрочем, и ели ее хорошо.
Позавчера еще были помидоры соленые – зеленые, непрезентабельные и с виду, но капитан их затребовал, а Карлик-нос, поднеся тарелку, только что порезанную Ячменевым, к самому своему шнобелю объемному, и пошевелив им вполне по- крысиному, яство забраковал. И капитан, извинительно оправдавшись перед третьим механиком («Вроде. Всегда свежие нам привозили!») сразу после обеда побежал звонить агенту: что за гниль тот на сей раз привез!
В коридоре показался заспанный Саня («Привет, Алексей»), значит, время уже десять минут двенадцатого. Через пять минут Саня вернется, пройдет в салон, сядет и будет ждать обеда – ему на вахту с двенадцати, и хорошо бы поесть пораньше. А для Ячменева пятнадцать минут перед обедом – бездна времени, за которое можно еще так много успеть!.. Но – Саня здесь друг единственный, потому…
- Чичас, Саня, чичас!
Выставлены щи, не позабыть, конечно, по стакану сметаны на каждый стол.
Нет худа без добра: хоть подскажет друг, где чего недосолено или вдруг – упаси Боже! – не дожарено. Поэтому, в интересах Ячменева как можно раньше дегустатора верного накормить.
Почти одновременно появляется вечно в этот момент сонный, рослый и русоволосый парень – Егор. Он не улыбчив и сдержан, но Алексея Андреевича благодарит всегда, и вообще ему здесь союзник: главным образом потому, что боцмана не переваривает на дух. Как и вареного лука: «Мне в детском саду воспитательница целую луковицу скормила!». Саня даже пытался склонить Ячменева, чтоб тот сначала отливал тарелку первого Егорке, а уж потом закладывал в суп пассировку.
- Э-э, нет друг, - отбоярился тогда от такого пожелания Алексей Андреевич, - я пассировку загружаю, когда картошка на полуготовности еще: чтобы тоже соком тем набралась.
И не стал Егорке, хоть и абсолютно славный был тот парнишка, отдельно ничего готовить: тут у каждого своя история – сокровенная, из детства самого, от самых корней. Есть, вон, сайты: напиши и пришли им свою историю и выиграй, как говорится, поездку в Таиланд!
Поэтому, Егор сразу просил второе («А котлета с луком?» - «Сегодня с чесноком», - получив такой ответ Егор заглянул Ячменеву в глаза, рассмеялся и взял тарелку), и едва успел он отойти от амбразуры, как за ним возникла серая футболка и дорогие часы на левой руке.
Капитан!
Вовсе не боялся его Андреевич, просто предпочитал всегда быть на возможно большем расстоянии – понятное вполне дело. И сейчас ушел из поля видимости, что открывал подзор амбразуры – так надежнее будет!
Вообще, плохо, конечно, когда ни за что, ни про что от капитана прятаться постоянно приходится. Какой же это отец родной, каковым настоящий капитан для моряков быть должен?
- Так, что у нас сегодня? – сняв крышку с кастрюли, брался за половник капитан.
- Щи… Обалденные! – кидал рекламу верный друг.
Спасибо, Саня!
- Да нет, это борщ! Щи с томатом быть не могут априори.
«Вот вумник!» - хмыкнул про себя Андреевич. Да, сделай он щи без томата – Бог весть, как бы их еще ели «ревизорро» местные. А так – все вкусно, все здорово! А борщ – который со свеклой – послезавтра, по хранимой в голове Ячменева очередности, будет.
А щи такие есть – с томатом! «Алексеевские» называются. Если Алексей их нынче приготовил – разве не так?
И Ячменев тотчас начал закипать к этому зануде капитану. Ну, чего он цепляется к каждой ерунде?! Да сделает в следующий раз щи без томата – пусть порадуется! И тюрю уж тогда следом – настоящую!
Алексей Андреевич рассмеялся. Когда он приготовил здесь мясо по-французски, капитан сказал ему: «Я люблю все по-русски! Если мясо – то куском». За сим заявлением автоматически выпадали теперь из готовки гуляш и поджарка, но Ячменеву захотел вдруг порадовать капитана исконно русским блюдом.
- Тюря!
Он уже сватал позавчера это первое блюдо старшему механику.
- А это что такое? – поинтересовался веселый, доброжелательный Борис Борисович (что был лет на пятнадцать Ячменева моложе).
Разговор этот происходил тогда после завтрака, в опустевшем уже салоне.
- Тюря – старинное русское блюдо. Колодезная вода – не кипяченая! – и в нее покрошены кусочки хлеба. Но, так как у нас колодезной, по рецепту, воды нет – придется обойтись питьевой, из баклажек.
- И все? – изумился старший механик. – Вода и хлеб только – ничего больше?
- Все. Ничего больше – вкус только испортишь! Этот рецепт даже у Похлебкина в его кулинарной энциклопедии есть… Или можно еще – уху бурлацкую. Рыбу – в котел с водой целиком, туда же – лук полными луковицами и картошку целиком – почищенную, правда. Будет – бурлацкая уха.
На бурлацкую уху стармех со смехом согласился.
А точно – забодяжить им, на фиг!
И пока Ячменев кипел, пуще щей своих, негодованием к капитану и к лучшим его людям, капитан, поев уже и второе и с кем-то весело в салоне переговорив, поставил тарелку и вполне искренне поблагодарил:
- Спасибо, Алексей!
Нет, не злобный капитан человек, коря уже себя за вспышку гнева, что моментом теперь и потухла, подумал Ячменев. Ну, хватает дерьма, конечно, но, да ведь, в ком того нет?
Вслед за капитаном потянулись гуськом и лучшие его люди, что выждали от благодетеля и слова ласкового, и взгляда приветливого – высидели! На освободившееся за столом место пришли второй механик и матрос, что таскал с утра кашу на мостик старшему помощнику (как говорил знающий Саня, они были дальними родственниками, и старпом парня сюда и подтянул). Парень, впрочем, тихий и всегда Ячменеву благодарный. И второй механик Николай был безусловным союзником Андреевича. Это он приволок сюда первого незадачливого повара: «Может, кэп из-за того и взъерепенился, что я через голову его действовал». А поваренок был знакомым его хорошим, и Коля, получалось теперь, здорово парня подвел, ведь обещал жизнь на судне безоблачную – будет тот кататься, как сыр в масле.
Ан, не вышло! Сразу наперекос пошло. Парняга проспал первый завтрак («Ну, так мы пятнадцать часов в дороге были!»), и хоть моряки сами все на столы организовали, боцман проснувшемуся в сладкой неге, как обычно к обеду, капитану добросовестно доложил – застучал.
А тут еще болезнь морская! «Мы есть приходим, - рассказывал Ячменеву сердобольный Саня, - а он на палубе сидит – ведро помойное обнимает!.. Ладно – дали ему таблеток. Но, а кэп все равно списал – через боцмана, понятно… А пацан аж плакал, когда уезжал: «Я с работы в ресторане уволился, кредит взял – думал, сейчас заработаю!». А ему, видишь, даже шанса не дали».
- И сказал о том, что списан повар, всем только накануне, вечером, - особенно негодовал Николай. – Тихушник!
Но, на то капитан по случаю дал Андреевичу вполне простое объяснение:
- Заранее не говорили, потому что опасались, что он нас потравит!
Услыхавший то Саня по уходу капитана блеснул Ячменеву горячим восточным взором:
- Вот люди, да! Сначала гнобят, а потом боятся, что отравят!
По вполне понятным причинам, Николай никогда не хвалил Алексея Андреевича, но благодарил исправно, и никоей опасности от этого сильного и – безошибочно угадывалось – доброго человека новому повару не было. Только что, масло сливочное Коля ел с хлебом каждый раз – и за обедом, и за ужином, но, исправно пополнял масленку с этого стола Ячменев: для своих нетрудно.
Последним к обеду, как всегда, пришел по окончание своей вахты в рулевой рубке старпом. Но, с этим вообще никогда никаких вопросов не было – эх, кабы все такие едоки были!
Закончен, смело можно было сказать, обед.
Лихо Андреевич отстрелялся!
И удивительное, но и привычное дело: как только сошла на нет тревога и напряженность обеда, сразу навалилась усталость и сонливость. В сон потянуло так, что захотелось бросить все – и полную мойку посуды, и плиту с опустевшим противнем и кастрюлей, неубранные в салоне столы, и пойти завалиться спать. «Рубило» так сильно еще и потому, что за переживаниями обеденными Ячменев безотчетно приложился, наконец, к еде, да приложился основательно: к каше своей замечательной троекратно, а и котлетку лишнюю по ходу пьесы «затрепал». Вспомнились тут и слова Марины: «Ты видел хоть одну кошку, или собаку, чтобы поела, а потом принялась бегать и прыгать?.. Вот-вот – и человеку после еды прилечь надо».
Да – кошку, или собаку… Алексей Андреевич вдруг загрустил от одного воспоминания. Волна куража хоть и нахлестывала мощно и весело на валуны существующей реальности, но все же откатывалась обратно, не в силах эту суровую поколебать. И встал теперь перед глазами коричневый, в свете уличных фонарей, ноябрьский вечер позапрошлой осени. Стояли на остановке люди, время от времени скрываясь под ее навес от принимавшейся сеять с неба мелкой мрази. Ячменев стоял чуть поодаль – тесниться ему не хотелось. Ехал от тещи домой. Ванную он старикам новым кафелем выкладывал.
А автобус все не шел на временно организованное теперь здесь кольцо: мост, что начинался в пятидесяти метрах, ремонтировали к предстоящему чемпионату мира по футболу. По сему поводу, и остановка была поставлена новая, модерновая, с покатой прозрачной крышей, и такими прозрачными боками. Ее даже не успели расписать граффити, но вандалы уже исправно проломили одну боковину. Деревянную, окрашенную в темно-коричневый цвет скамейку во всю длину облюбовала кошка с потешной круглой мордочкой и полосатым - серым чуть не до зеленого – окрасом. Малахит под слоем пыли – вот был ее цвет. Была кошка бойкой, но на подвальную все же не походила – достаточно упитанна и чиста. Скорее всего, просто выходила на вольные хлеба – поклянчить что-то у ждущих на остановке автобуса людей, а если повезет, и раскрутить кого-то сердобольного на пакетик кошачьего корма из зоомагазина, что находился на углу дома – через тротуар только и перейти, не полениться.
Ячменев видел кошку, приезжая ближе к полудню, почти всегда она провожала его, вместе с другими пассажирами, темными вечерами. Подкармливал постоянно.
И сейчас кошка, сбежав из-под навеса, расположилась неподалеку от Ячменева, точно напротив дверей магазина: напоследок сорвать.
А на дороге, что абсолютно пуста была сейчас от редких, в образовавшемся тупике, автомобилей показался небольшой щенок. Самостоятельный – поневоле уже. Тоже крепенький, не благородных кровей, но симпатичный вполне, семенил неизвестно куда, заглядываясь на каждого прохожего: не найдет ли дворняга в нем доброго хозяина наконец. Того, кто укроет его от этой слякоти и непогоды, накормит и отогреет. А уж пес будет верно служить этому доброму человеку!
Говорят: «щенячий восторг». Так вот у этого на морде виделась щенячья улыбка. Добрая, наивная, заискивающая чуть: «Я – хороший, правда!».
И такая беззащитность и неприкаянность слезилась в собачьих глазах!..
Щенок поравнялся с Ячменевым, отыскав его глаза, а тот устыдился себе – что не отыскать сейчас в карманах хоть какой-нибудь завалящей косточки: можно было ведь сегодня припасти и для собаки, да кто же знал!.. Ячменев хотел уж было позвать собачонку – разобрались бы у дверей зоомагазина! – но тут из под ног грозно поднялась кошка, и щенок инстинктивно отпрянул от бордюра, испугался, обежал место по середине дороги: «Не-не, я ничего - бегу себе дальше!».
Учен уже был, видно, племенем кошачьим…
Попадутся ли ему на пути, наконец, добрые люди?.. А без них – выживет ли животинка грядущей зимой?
В мире, услышал как-то по телевизору достоверные сведения Андреевич, несмотря ни на какие кризисы выбрасывается два миллиона тонн пищевых отходов в год. И он каждый день выбрасывал отходы за борт: «Ешьте, рыбёхи!». Частенько вспоминая при том бедного щенка: тому бы с такой горы косточек хватило и одной. А уж колбасные обрезки, которые безжалостно посылались в мусорное ведро, дабы утонченные натуры (хватает, ведь, боцману подобных и на рыболовных судах) не заподозрили, чуть косо или толсто порезанный кусок выудив, что держат их за «свыней»: это ассорти уж таким пиром для щеночка неизбалованного бы было!
«Маленькая собака до смерти щенок»… Вот и ему жена порой, в момент вспышек гнева, говорила в сердцах: «Ты просто из детства так и не вырос!». Наверное, так оно и было. Но да ведь, и Господь сказал: «Если вы не обратитесь, и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное».
А и тосковал Ячменев всегда по детству и юности совершенно отчетливо. Как хороший археолог, откапывал в интернете осколочки того безвозвратно ушедшего времени. Скачивал старые фото, находил одноклассников. Знал, где сделал шаг неверный от другой, быть может счастливой своей судьбы. Не мог только никак разыскать школьной своей любви – той девочки-умницы, что так и осталась на всю жизнь самым чистым женским образом. Впрочем, у нее-то наверняка все счастливо и благополучно, и даже хорошо, что ему никогда не придется рассказать ей про себя.
Читатель дорогой! Пока Ячменев, которому никак надолго останавливаться - дабы не уснуть на ходу и вовремя со всем поспеть,- чистит картошку на драники, что запланировал нынче на полдник, может, прервемся чуток? Чаю выпьем, отдохнем, а то и покемарим после обеда – мы же нормальные, свободные люди: уж и на том спасибо, что до этого места добрались!
2
Из расчета две с половиной картошины на человека, почищено уже было достаточно. И Алексей Андреевич с шумным вздохом поднялся со своего стульчика – «тибареточки», на которую за весь присаживался только во время чистки овощей: все-таки, это был относительный отдых – хотя бы для ног. Была и опасность, особенно с утра, когда он чистил лук, морковь и картофель на суп, в сон начинало клонить постоянно. Особенно при чистке лука – глаза слезились, приходилось моргать, и если сжимались ресницы сами-собой, то открывались глаза после двух-трехсекундного забвения с явной неохотой.
Сам уже был, как овощ!
Ячменев и здесь нашел выход – кружка крепкого, горячего чая, из которой прихлебывать доводилось после каждого овоща, ситуацию исправляла. Этакий файвоклок на ходу. Алексей Андреевич к такому и по матросской былой работе был вполне привычен, и даже полюбил подобное чаепитие. К тому же, и темп чистке, от глотка до глотка, задавался и ускорялся: стынет ведь напиток богов!
Слава Богу, хоть картошки чистить здесь надо было немного – на тринадцать-то человек. Да еще, кто-то на полдник тоже не придет.
Парят его с этим полдником, ох, парят! Не должно этого полдника быть - по распорядку на подобных судах, где один только повар, общепринятому! Нет полдника на торговых судах – трехразовое питание. Потому как, по здешнему – «по-деймовски», если – даже по часам посчитать: в половине седьмого, как не крути, на камбузе надо уже быть, а убыть с него получается, в лучшем случае, лишь в половине десятого. Вот тебе и пятнадцать часов работы чистоганом – что не говори!
Эх, родимая ты сторона! Где только наш брат заправляет – везде шельма!
Вот за то нас варяги справедливо не любят.
Да, что делать – если жизнь такая стала? Тебе за работу платят копейки, а ты плати везде по большому счету. А уж коль волею счастливого случая попал на какое-то заработное место – местные хозяишки своей самозваной властью сто раз тебя размажут, и сто шкур с тебя сдерут. Узурпация, мать-перемать, власти. Кто этот капитан, такой, чтобы т а к у ю власть чинить – разве о н деньги платит?!.
От мыслей таких заунывных впору было скатиться Ячменеву в сиюминутное озлобление, но сознание тотчас пришло на помощь, вовремя подкинув нужные сейчас воспоминания. И Андреевич тихо и пока еще грустно улыбнулся. В ассоциативном ряду, вмиг возникшем в мозгу, он вспомнил тех отважных людей, что в поисках заработка денег для своей семьи отважно брались и за то, что делать в помине не умели, или не могли. Вспомнил, и отдал их дерзости должное: «Уважуха!».
- Была одни повариха, - рассказывал в прошлом рейсе второй повар, - так она вообще вкуса не чувствовала, прикинь!
- В смысле, запахов не чувствовала?
- И запахов тоже, но и вкуса – вообще, напрочь!
- И как же она работала? – изумился тогда Ячменев.
- Так и работала – на глаз специи примеряла, пока не вычислили, да не выгнали.
Молодец женщина!
Еще одну отважную женщину – и тут уже громко рассмеялся – вспомнил Ячменев: в одном из «Приколов нашего «Городка» увидал уж два, наверное, десятка лет назад . Хоть и не всегда их принимал Алексей, но порой на тамошние розыгрыши стоило посмотреть! Как и на тот, хранимый памятью, когда пришла женщина средних лет в той самой середине девяностых утраиваться секретаршей. Человек, знакомящий ее с рабочим местом, напомнил ей о необходимости безупречного владения компьютером и английским языком. После чего извинился – на минуточку он отойдет. Отважная претендентка осталась одна под прицелом скрытой камеры. Она подошла к компьютеру, долгую минуту изучала монитор и, наконец, одним пальчиком осторожно ткнула в клавиши. В этот момент зазвонил телефон. Из поднятой женщиной трубке зазвучала английская речь. «Нихт... Нихт!» - весьма бойко ответствовала без пяти минут секретарша.
Но, а что тогда было делать нормальным людям – тем, кто не увязался тогда на большую дорогу грабежа себе подобных? Только и оставалось – шустрить, хитрить, юлить, приспосабливаться. Да и сейчас – разве легко те серебряники простолюдинам даются? Но, ваша правда – нет сейчас такого беспредела неплатежей и задержек заработка: и на том спасибо!
А он сам – разве не играл сейчас роль шута, скомороха, гаера: родным и любимым людям так нужны были деньги, что должен был заработать здесь он! И быть клоуном все же честнее, чем «до самого горла»...
Конечно, клоунадой своей и актерским мастерством приходилось лишь компенсировать недостаток мастерства поварского, хоть, с этими ребятами – не факт еще, что и повар от Мишлена «потянул».
Драники… Сделает Ячменев сегодня их по-честному: без добавления муки. Время есть, чтобы лишнюю воду с картофельного фарша слить.
Опять с верхней, над амбразурой, полкой снята коробка с мясорубкой, только в нее теперь посыпались чищенные картошины вперемежку с луком.
На второй день своей работы здесь Ячменев забабахал на полдник беляши. Это при том, что беляши – вполне себе самостоятельное второе блюдо на обед, или, чаще всего в море, на ужин. Но, боцман накануне, когда жарил Алексей Андреевич блины на полдник, облокотившись на дверной косяк, спросил:
- А можешь ты, предположим, беляши на полдник сделать.
Видимо, очень ему хотелось… Или, высший это пилотаж поварского мастерства для его был.
- Легко! – весело заверил Ячменев: он еще был открыт для всех, и со всеми планировал поладить. – Завтра, вот, и забабахаю.
Уж беляши-то были одним из козырных блюд Алексея. У него был свой, в ходе работы найденный, рецепт теста для беляшей, отчего те не коричневели даже при жарке, а лишь румяно золотились. И тесто благодарно оживало в его руках, весело пузырясь и щелкая. Со своей наблюдательностью, старательностью и изобретательностью Ячменев нашел свой способ собирать беляши (он делал их без дырочки – чтобы абсолютно все соки мяса оставались в беляше). Защипывая окончательно тесто, он большим и указательным пальцем, как ножницами, отсекал излишки теста – чтоб по всей сфере беляшик имел равный, тонкий слой теста.
Ну, и в фарш лука сам-собой не пожалеть – для сочности.
Честное слово – залепить и пожарить полсотни беляшей было абсолютно плевым Ячменеву делом: успевай только на сковороде переворачивать, да масла подливать!
И здесь его беляши успех имели оглушительный, Матросик – родственник старпома, увидав полный противень румяной выпечки, радостно спросил, сунувшись чуть не по пояс в амбразуру.
- А это что?
Беляши-то Ячменев делал без опознавательной дырочки.
- Беляши: народ от радости пляши!
Съели за полдник почти все. Но кто-то – Ячменев за мытьем посуды не увидел, кто именно – вернул тарелку с наполовину съеденным беляшом: мол, не прожарен.
Ячменев тогда лишь досадливо усмехнулся: тончайшая прослойка теста, что прилегает вплотную к мясу внутри, всегда будет влажной – тонюсенькая полосочка. Пусть купит любой уличный беляш – посмотрит, анатом кулинарный!
Теперь он не сомневался, что это был боцман.
А драники - что: залил массу на сковороду ложкой, и смотри только, чтоб поджарилось до той самой светло-коричневой, чуть хрустящей корочки.
Но не уводила никакая работа от образа того – на время лишь короткое отвлекала, но точно туда память каждый раз и возвращала: в тот день осенний, прошлогодний, когда встретил он, тридцать три года спустя, любовь свою школьную. Встретил, и уже через какой-то час общения совершенно ясно понял, что любит ее и поныне – никогда, сам того не ведая, не переставал любить. И именно эта любовь хранила его все лихолетья. И искал ее в других, но, конечно – как он мог найти?.. И ближе всего образ светлый в Светлане и нашел: внутренним своим миром они были очень, как с удивлением понял он, похожи с Мариной.
Но, что теперь было делать?
Делать-то теперь было что?
С одной оживало детство и юность, мечты и надежды. Все были живы, и все было еще впереди…
А с другой было прожита другая половина жизни – серая, нет – не от того, что Светлана была рядом, напротив! Но, да время-то какое было! Девяностые годы с их пошлостью, обманом, цинизмом: с самым большим предательством народа, что только кое-как выживал. И то, что Ячменев выжил – львиная Светланы заслуга.
С Мариной, в их осени воистину золотой, не было фальши, там не было обмана – он бы почувствовал это сердцем, душой, всем нутром своим.
Там было так, как никогда в жизни не было!
Там было так, как всю жизнь должно было быть…
Но, за эту так поздно познанную истину страдал теперь другой родной, и все же любимый – пусть чуть по-другому - ему человек. Тот, что не бросал его в самые серые дни безнадеги. Помнится, Ячменев как-то вякнул, мол, на что она такая жизнь? И Светлана, не зная уже, что на это ответить, тихо начала:
- Вот, по радио слышала: один парень – слепой, так он стихи пишет.
Это работало до сих пор: Ячменев помнил и этот почти умоляющий тон жены, и образ невидящего этот мир поэта, но твердо верящего – тот прекрасен! Настолько, что стоит его воспеть!.. Настолько, что стоит жить наперекор всем бедам и лишениям.
А теперь Ячменев бросал свою жену. Бросал в беде – в неизлечимой болезни. И какого ей теперь бороться каждый день с болезнью, будучи преданной любимым: Светлана его любила по-настоящему.
Он было уехал в Томск – к Марине, но потом вдруг горячечно сообразил, что те деньги, которые нужны и Семену на обучение, и Светлане, и им с Мариной он может заработать пока только в море. И он вернулся – Марина не сказала ни слова против: он пообещал, что сгоняет в короткий рейс и приедет уже навсегда. Он и вправду чувствовал так, что прощается совсем ненадолго. Город, в который он возвращался – был не его город: за тридцать лет они с Ячменевым так и не смогли принять друг друга. Но в этом городе жили его жена и сын – отныне и навсегда. И через этот город единственно пролегала сейчас его дорога в море.
Три недели он жил на даче – благо, крулинговая компания, в которой Алексей Андреевич встретил еще и давнего своего приятеля, быстро нашла ему ту самую вакансию – черную метку – на «Дейму». Но он не мешкал и с этим, заранее гнилым вариантом: не развязку, но отсрочку своей неразрешимой ситуации он получал.
И сейчас он, не будучи ни с одной, ни с другой, вроде как был с обеими – он в море.
Но, вот что было главным: бесполезно ломая голову над неразрешимой дилеммой своих мыслей и чувств, претерпевая теперь тяготы и лишения от своего нынешнего положения – ни там, ни сям! – Ячменев никогда бы теперь не согласился отдать, променять, прокрутить назад хоть одно мгновение той осени золотой, что все ему в жизни разъяснила, привела к единому вектору, помимо того огня невиданной силы, что полыхнул в те самые дни, и согревал даже теперь в душевное такое ненастье.
И не полыхнул бы тот огонь без воли Неба – твердо знал себе это Ячменев.
Бесценная позолота осени уже легла на сердце самым счастливым, что было в жизни его.
А золотились уже и драники на сковороде – теперь надо было ловко и нежно переворачивать их на другую сторону.
Конечно, чтобы просто было бы их переворачивать, можно было муки еще бухнуть – как делали он на большом траулере. Тогда бы и опасности, что какой-нибудь самый красивый драник вдруг разломится при переворачивании пополам, и разлетится уж на клочки, что уж никак не собрать. Но, тогда бы вышли они жестче, а Андреевич очень хотел, чтобы получились его драники мягкие –премягкие…
- Мях-хкое, как сердце жэ-энщины, - так нараспев – и довольно-таки препротивно! - говорил в одном из рейсов матрос-лебедчик за обедами и ужинами в салоне команды.
- Тебе лучше знать, - переглядывались матросы: лебедчик уже несколько рейсов был неразлучен с «врачихой», по возрасту намного его старше. Вместе они копили валюту на автомобиль, который и намеревались в том рейса при заходе в европейский порт наконец приобрести. И друг Ячменева Толик без обиняков говорил:
- Да это он не ее любит – машину!
Им и в голову тогда не приходило, что в таком зрелом возрасте могут не то, что пылать, но даже и теплиться какие-то чувства.
А вот поди ж ты!..
И Ячменеву жена на первых порах, еще на зная, как далеко в этих чувствах он зашел, в сердцах высказала:
- Любовь какую-то себе еще придумал!
Если бы придумал!..
В том-то и дело – все случилось без их с Мариной воли. И потому на второй день разлуки, когда Марина так и не смогла ни сама закончить отношения, ни убедить в том Ячменева, она лишь устало выдохнула в трубку:
- Ладно… Бог – свидетель нашей любви: Ему видней.
Андреевич сейчас старался не вспоминать тех дней – воспоминание этого счастья он берег на действительно трудные времена: тогда они ему помогут и спасут, а сейчас – пусть хранятся бережно внутри, не надо лишний раз теребить – замызгаешь… И еще была причина – все-таки, Светлана, сын, теща с тестем не проходящим, постоянно ноющим чувством вины заглушали ту радость. Болело постоянно, но, что было то, по сравнению с болью мученицы жены!
- Сейчас, я найду как лечь, чтобы не болело все, - так частенько, ворочаясь с бока на бок, укладывалась спать он – тогда, когда они еще были одной семьей. – Просто, разрывает все внутри.
Тогда они были одной семьей, и помыслить нельзя было о каком-то расставании: разве возможно теперь такое?
А когда Светлана поняла, что Ячменев действительно уходит, она сказала:
- Самая страшная боль причиняется самыми близкими людьми. И ее никакими таблетками не заглушишь.
Но, как было ему иначе? Врать святой ложью? Да, Светлану сейчас также легко было обмануть, как ребенка несмышленыша: сильнодействующие лекарства оказывали влияние на мозг. Но, разве то было бы честно?
А теперь получалось – честно, но подло. Как такое может уживаться?
И как он может жить дальше под Небом? Но ведь, живет – значит, всепрощающему нас Небу так надо.
И Андреевич грешным делом думал в эти дни, что и капитан, и боцман, и рейс этот – конечно ему расплата за все его последние художества. Потому, не стенал («И за что мне такое?»), а только правильно понимал – то лишь начало неизбежного возмездия, да удивлялся чуть: уж очень мягкое наказание пока.
Однако, время поджимало - надо было опять гоношить на столы нарезку, дорезать хлеб, выставлять из холодильника масленки, йогурты, паштеты, и ко всему этому само блюдо полдника – противень с драниками. Ну, по банке сметаны на каждый стол тогда.
Правда, на полдник здесь приходили с опозданием: в половине четвертого еще не было никого. И Ячменев, окинув придирчивым взором сервированные столы, поправил противень и поспешил к себе на камбуз: теперь был выигрыш во времени для приготовления ужина. А надо ведь еще почистить картошки на гарнир, и «раздербанить» брикет красных карасей, что достал он из морозильной камеры вчерашним вечером, и который потек уже внутри поддона из нержавейки.
Ничего – это все уже решаемо: здесь уже подводных камней для Ячменева нет.
- Драники, так называемые, - послышался из салона язвительный голос боцмана.
Вот упырь! Здесь-то чего тебе не так?!
Ячменев отсел подальше от амбразуры – чтоб не видеть, не слышать, - и взялся за чистку картошки: ручная работа – лучшее средство от стресса. А еще молитва…
Он взялся читать вполголоса свод своих молитв, и когда спокойно и благополучно довел, на сей раз, его до конца, то салон уже опустел от чертей и благодарных едоков, и крупная рыбная чешуя летела во все стороны из-под ножа: с картошкой было покончено давно.
Чтобы чешуи по сторонам летело как можно меньше, Ячменев чистил рыбу на дне достаточно глубокой своей раковины. Правда, то было совсем неудобно для спины.
Солнце заглянуло своим предзакатным лучом к нему на камбуз, наполняя спокойствием пространство притихшего на время камбуза, умиротворяя хлопотную суету и тревоги уходящего дня. И Ячменев, опять убрав столы в салоне – в третий уже раз за день – загрустил светлой грустью у своей раковины. Он любил это время – время угасания дня, как любят многие угасание дров в камине. Вот в такое же, обычно, время Ячменев мыл посуду дома – начиная с третьего класса это входило в каждодневные его обязанности по дому. Благодаря тому, он никогда этим занятием после не гнушался, не брезговал, а даже где-то любил. И в воспоминание о домашнем мытье посуды обязательно выводило его на «Железную дорогу» Александра Некрасова – выучить отрывок наизусть задала им учительница литературы: «Через две недели буду спрашивать». Все, как водится, записав то в дневниках, тут же и позабыли о задании. А Ячменев – стерлось в памяти уже, почему - очень серьезно к тому подошел. Вот только – в пятом, или шестом это было классе?..
Он устанавливал учебник на сушилке для тарелок, что располагалась почти на уровне глаз, и методично, абзац за абзацем, заучивал стихотворение во время мытья. Руки делали свое дело, голова занималась своим. День за днем, Ячменев осилил стихотворение в срок. И то оказалось совсем не трудно, и стало даже в радость – очередное четверостишье ровно и четко ложилось на память вслед за предыдущим четверостишьем, словно шпалы той самой дороги.
Две недели истекли с субботу, уроки которой начинались именно литературой. Понятное дело – никто не учил. Впрочем, Ячменев дал товарищам время зазубрить спросонок хотя бы первый отрывок в четыре четверостишья.
- Славная осень! Здоровый, ядреный воздух усталые силы бодрит!..
Что называется, от зубов отскакивало четверостишье за четверостишьем, и только удивленные вздохи иных одноклассников встречали новый отрывок.
- Вы знаете: я ему две пятерки поставлю! – в эйфории заявила строгая учительница.
Да ведь, и тогда Ячменеву те отметки были делом вторым. Главным было то мерное, спокойное – с расстановкой - но неумолимое приближение к победному финалу, что конечно всегда будет за ним: день за днем, стэп бай стэп. Главным было осознание, что все ему по силам – надо лишь трудиться над тем…
Неведомо, сколько раз в жизни выручила его потом та «Железная дорога»: он знал с той поры наверняка, что до любой цели можно добраться рано или поздно – надо спокойно и твердо к ней идти.
А потом еще присовокупил мудрость великого китайского мудреца: «Самый большой путь начинается с одного маленького шага».
Вот только, тот свой маленький подвиг он совершил не на глазах Марины – она бы наверняка оценила, и он бы запомнил это. Значит, ее уже не было в классе. Значит – то был, все-таки, шестой…
И, быть может, он просто забыл: возможно таким образом он заглушал, преодолевал, побеждал в себе то опустошающее смятение, что рвало его душу после никем нежданного ухода и переезда Марины на другой край города, после которого он видел ее считанные разы.
А одноклассники, кстати, за такую подлянку – дорогу ту железную – его чуть не побили.
Столы были вытерты начисто, картошка погружена в кастрюлю с подсоленной водой и поставлена на плиту, и возникла пауза благоденствия и тишины, в которую можно было спокойно оборудовать рабочее место для жарения рыбы.
Но в выдавшуюся тишину тотчас врывалась совесть.
- Девочка плачет… Шарик улетел… Ее утешают, а шарик летит.
В прошлый рейс Светлана прислала ему по WhatsApp фото из своего детства: полная жизни девчушка с румяными щеками и толстыми косичками, залезши с коленками на стул, пытливо высматривает что-то за кадром. А позади улыбающаяся мать штопает какую-то вещь на руках.
- Девушка плачет… Жениха все нет.
Лучше бы его не было – такого-то жениха?.. Что теперь об этом думать – сложилось именно так, и жизнь уже прожита.
- Женщина плачет… Муж ушел к другой.
В детстве, когда Ячменев услыхал эту песню – под гитару брата пела его девушка, - он воспринимал этот куплет гораздо проще: ушел к другой, вечерок скоротать, но к ночи-то вернется, обязательно, или уж к утру - край! И только сейчас он понял смысл слов по-настоящему.
«Муж ушел к другой». И ни кем его не заменить – даже и стараться бессмысленно. И, значит, не будет в жизни женщины уже мужчины – ни в ночи, ни при свете дня. И некому будет гладить рубашки и готовить любимый салат, и некому будет сменить лампочку на лестничной площадке и свои плечом защитить ее от всего зла, что так живуче в этом мире.
Да, наверное, он всю жизнь должен был быть с ней – с Мариной: возможно, они оба были бы счастливы. Но, в жизни получилось иначе, и другая согревала его душу и сердце много лет. А теперь он подло ее за это бросал – в неизлечимой болезни.
Ячменев прекрасно помнил тот ноябрьский день много лет назад, когда сопровождал жену на процедуры в клинику. Светлане должны были сделать укол, и через каких-то полчаса он уже встречал ее у больничных дверей.
Светлана была возбуждена и растеряна, как впечатлившийся невиданным ранее ребенок.
- Пойдем, кофе где-нибудь выпьем!
Она жадно пила кофе, таким же жадным взглядом запечатлевая осеннюю улицу через стекло витрины.
- Знаешь, в какие мешки их укладывают?
- Кого?
- Ну, тех, кто там умер. В синие такие, непрозрачные мешки.
И расширенные глаза горели растерянностью и страхом.
Как странно и страшно: она так хотела жить, а ему, в общем-то, это было уже неважно. Но вот он, негодяй, будет жить дальше, а кто-то…
«Нет, - упрямо мотнул головой Ячменев, - нельзя так даже думать: она будет жить долго и счастливо!».
Мысль материальна, и да пусть эти его слова будут услышаны!
«Девочка плачет»…
Для родителей она всегда остается ребенком.
- Ты же знаешь, - по-доброму убеждая, говорил ему каких-то две недели назад на даче тесть, - дочь для меня – главное в жизни.
Просить ему не позволяла гордость, и он лишь осведомился, не передумал ли Ячменев с разводом, и не лучше ли все же не спешить, и забрать заявление.
- Да я-то – пожалуйста! Это не моя затея с разводом – Светланы.
Растроганный тесть тут же крепко пожал Ячменеву руку.
- Все будет, как прежде, - спешил он заверить на радостях. – Потому что, сам знаешь: дочь для меня – самое главное!.. Вот, на даче, в следующую субботу, и отметим! И все будет как прежде.
Он как ребенок верил в это – а что оставалось старику там, где он был бессилен чем-то помочь?
В тот же вечер Ячменев позвонил жене и сказал, что заберет заявление завтра. Но неожиданно услышал:
- Нет, не забирай – пожалуйста, я тебя прошу. Сейчас, когда уже многое отболело…Давай, если что, то начнем уже по-новому. Прошу – не забирай!
И продублировала просьбу чуть позже sms.
А может, и надо было тут ее не послушать?
Обманутый и подавленный тесть смог лишь сказать при следующей встрече обидное:
- Сына ты уже потерял.
Ячменев согласно кивнул: тут возразить было нечего. Впрочем, еще года за полтора до нынешних событий он сказал Светлане:
- Вот, случись… Случись мне с ним одним остаться – он меня из дома выгонит!
А как так получилось, и когда он утратил со своим сыном всякую связь? С сыном, что заступался в детстве за отца перед всеми, а теперь гнал его из дому. Молодость всегда жестока, и ребенок всегда прежде за мать, тем более – в такой отчаянной ситуации.
Конечно, правдой было то, что слишком мало времени Ячменев уделял воспитанию сына. Но не только морские разлуки были тому виной, и не лень тут являлась причиной. Просто, Ячменев не знал, как в современном мире воспитывать ребенка – какие давать ему ориентиры, какие прививать качества, какие ценности утверждать? Ведь теперь надо было, чтобы ребенок стал не просто человеком, а непременно успешным человеком. Поэтому, совершенно не годилось все то, чему учили Ячменева родители, школа, окружающие его в детстве и юности люди. Жизнь поменялась диаметрально, встав даже в какой-то момент и на голову, и сейчас хоть и вернулась во многом назад, но отнюдь не окончательно.
Но и натаскивать ребенка цербером – чтоб рвал всех вокруг, как «воспитывают» своих отпрысков иные скудоумные жлобы, Ячменев тоже уж никак не хотел. Потому и вверил почти целиком этот процесс жене и бабушке – уважаемого даже гопниками района-гетто ее школы, педагога. Тесть подключался с армейской выучкой, Ячменев же добросовестно знакомил сына с творчеством Высоцкого, когда исправно провожал в детсад и спортшколу, чуть погодя.
Еще был О’Генри с «Пиментскими блинчиками» - на кухне, позапрошлым летом, когда уплетали сын с другом со сгущенкой блины, которые едва успевал жарить Ячменев, рассказывая между делом залихватскую новеллу. Пацаны силились слушать и, переглядываясь друг на друга, определить, где смеяться :«А Васька слушает, да ест», - на свой лад.
Пора уже было щедро наливать в сковороду масло, и включать под ней плиту…
Кто будет теперь жарить им блины и рассказывать вечные произведения. А еще покупать на рынке кижуча с головой за сносную еще цену а разделав и засолив, «на выходе» получать настоящую красную малосоленую рыбу – ту самую, что тает во рту с тоненьким бутербродом и чашкой горячего кофе на завтрак – лучшее начало дня для его домочадцев!
Кто тестю баньку, о которой он уже мечтает который год, на даче построит?
В конце прошлого рейса Светлана, сердцем почувствовав неладное, вдруг написала ему: «Ты нам так нужен!».
Теперь они оставались без него, как это говорится: «дети и старики». Да жена – инвалид. И на все, про все на них четверых – три пенсии и мизерный заработок тестя в части, в которую он все еще носил ноги, дабы дома не сидеть, да и там без ветерана обошлись бы с трудом.
А ведь кроме того, что на прожитье, да за коммуналку сейчас деньги немалые, так ведь – Светлане на болезнь, да сыну на учебу!..
Потому – Ячменев поднялся со своего табурета и уложил его по походному, чтоб не путался под ногами, на пластмассовый ящик для картофеля, - потому должен он сейчас выстоять и превозмочь вкруговую всю работу, все нападки и придирки, чтобы хотя бы деньгами помочь родным своим, благополучно им брошенным людям.
Он готов был на словах работать по шестнадцать – восемнадцать часов в сутки?!. Время пришло!
Пришло время уже и картошку на плиту ставить – вечная у Ячменева с ней заморочка: протянет до последнего, а потом скачет вокруг кастрюли, высматривает - закипело, или нет? И сколько раз так бывало – и здесь даже однажды! – что уже за вторым у амбразуры люди стоят, а он еще только воду с кастрюли впопыхах сливает, да за толкушку подхватывается: в пюре измять… А картошка нынче (а может, и давече также было) порой такая неуваристая! Вот и натыкается он на комки сырые, кляня себя последними словами: это ж надо умудриться такое простейшее пюре картофельное «закосячить»! Оно стопроцентным хитом – гарниром должно всегда быть – нежненькое, на молочке, да с маслицем! – а люди сейчас сырыми комками давиться будут!
Да, они так жили всегда: он работал в море, и благодаря тому более-менее благополучно сводили концы с концами. Его заработка за морской рейс хватало вполне, чтоб по приходу рассчитаться с долгами семьи и дотянуть следующего ухода в море.
По сути, бОльшую половину времени он проживал в море, жена с сыном – на берегу.
Но Ячменев не видел в том никакой драмы: жизнь у всех разная, ему выпала такая. Да, и не ему одному – десятки, в любом рейсе, рядом подобных судеб.
И чего роптать на судьбу, если сам такую выбрал?
Вон, филиппинские моряки – это Ячменев еще в юности своей морской узнал – привычно проживают так всю жизнь: сами работают в море, годами не видя собственной семьи, лишь регулярно деньги пересылая.
Он уже переминался с ноги на ногу от усталости – все-таки, двенадцать часов, как был на ногах. Еще через полчаса дала себя знать и спина.
Ах, спохватился Ячменев – как же он забыл?!
- Блин, башка бестолковая – ты о чем вообще думаешь придурок?
Маринад-то для рыбы!.. Маринад был бы сейчас так кстати, так «в масть»! По части приготовления маринада Ячменев был мастер, да и какое там требовалось особое мастерство: та же пассировка на суп, только соли чуть, да сахара три раза по столько, плюс уксуса плеснуть, чтоб только не переборщить – вся недолга!
И ведь время было у шельмеца!.. А может – еще успеет?
Ячменев глянул сквозь подзор амбразуры на часы: без двадцати пяти семь – час еще почти: успеет!
И он подхватился, уже не приседая на табурет – стоя, чистить две большие луковицы и три морковки: хватит, наверное. Одна минута – и уже разлилось масло на дне поставленной на плиту кастрюльки, и зачастило лезвие ножа по разрезанной напополам луковице на разделочной доске.
Успеет! Маринад-то его здорово выручит: он и натюрморт красивенький на тарелке с рыбой и пюре картофельным создаст, и вкуса добавит. Дешево, и сердито!
- Прекрасное далека-а, не будь ко мне жестока-а!..
Сроду не видел Ячменев «Гостья из будущего» - да, так и не посмотрел за всю жизнь ни разу! А вот песню пел всегда, особенно в девяностые – годы общего лиха и его неприкаянности. Неприкаянности, которой Светлана конец и положила – подобрала и отогрела.
- Я клянусь, что стану чище и добрее-е… И в беде не брошу друга никогда.
И тут он осекся.
Хорошая песня… Замечательная! Только, имеет ли право он теперь ее петь?
Но, да ведь в то далеко он возвращался теперь – возвращался к той, своей Гостье из будущего, что владычила юностью, любовью, высокими и светлыми мечтами и устремлениями, которым суждено было сбыться лишь отчасти (но так, наверное, бывает всегда), и которые сейчас он окончательно предавал.
Да – предавал: из последних песенных строк выходило именно так.
- Возвращайся, они тебя примут, - не раз говорила, наблюдая уход Ячменева в глубокую задумчивость, Марина.
Но не было теперь уже дороги назад. Хотя бы уж потому, что никогда ему теперь на будут там верить: предавший раз, предаст и другой.
Вернуться?.. Житьишко его и раньше было не слишком счастливым – все в примаках, да мужем незавидным: «Такие женихи у нее были!». Ну да, конечно, безотчетно он подустал от житья с чувством той вины – и это было. И все годы, получалось, в оправданье – как щеночек тот: «Я хороший!». Да ведь, и завоет Ячменев однажды на луну, да ведь все равно сорвется и умчится туда, где был единственный раз в жизни абсолютно счастлив… Хоть там его, конечно, никто уже не примет – и там предателем окажется.
Эх, полечь бы на этой нейтральной полосе!.. Но, Небу видней – значит, надо еще помаяться. Да ведь, нужен он, конечно нужен – в том-то и дело, так пусть свое дело делать будет – уже толк!
Ну, вроде как с ужином-то выезжал Ячменев неплохо. Карась краснобокий зажарился до золотисто-коричневой корочки, и вид имел весьма аппетитный. Маринад тоже удался – скрупулезно «миллиметровал» по столовой ложке уксус Ячменев и попал в самый раз! А картофельное пюре он умел очень красиво подавать на тарелке: ложкой одним неотрывным движением делал бороздки от центра к краям, отчего получалось очень эстетично – как экзотический цветок с широкими желтыми лепестками.
Ячменев это сам придумал – по ходу раздачи то ли обеда, то ли ужина в прошлых рейсах как-то внезапно получилось: само-собой пришло. Удивительно даже, что только ему: нигде Ячменев подобного не видел.
В жизни всегда есть место творчеству – в любом ремесле, это правда.
Все было нормально, вроде, с ужином, но поди ты, угадай, что кому опять не так будет!
На запах жареной рыбы потянулись дружно. Наверняка она удалась, потому что капитан опять затеялся рассказывать одну из многочисленных историй преданно заглядывающему ему в рот боцману, и насуплено отсутствующему Карлик-носу, что запросил только гарнир (дошлый уже в этом вопросе Ячменев предупредительно пожарил рыбному отказнику толстенькое кольцо колбасы, однако механик все равно морщился сейчас на диване – от запаха одного). И краем уха невольно подслушивая клочки капитанских баек, Ячменев отдавал про себя должное дару рассказчика и искренне сетовал: был бы тот человеком – с удовольствием послушал бы капитанские истории и он.
Ячменев любил рассказы бывалых моряков, да и просто – поживших на этом свете людей: из них складывалась правдивая картина действительности. А забойные байки, над которыми смеялся от души, просто помогали жить: куда нам без смеха над самими собой?
Он повеселел вдруг от одной этой мысли, и волна оптимизма нахлынула внутрь, и на этой волне надо было выхватывать из-за привязанной двери форменную куртку и облачившись в нее шуровать через все судно на бак – там в носовом помещении стояли две морозильные камеры и холодильник для хлеба.
Ужин можно было спускать на тормозах: привереда номер один уже поставил грязную тарелку, сказав даже на сей раз: «Спасибо, Алексей!» (знать, понравился маринад, да и рыбу капитан очень любил), а прочие моряки то ли уже ели второе, а то ли должны были подойти и забрать стынущие тарелки со вторым, что в нужном количестве сгрудил на раздаче Ячменев.
Разберутся! У него кроме того, что опоздавших караулить, других дел по горло. Впрочем, вполне Ячменев их понимал – немногословный, с грустным взглядом серых глаз, второй механик, его друг – разбитной весельчак электромеханик и пара независимых матросов, приходивших на ужин «во вторую смену», просто не хотели лишний раз общаться с капитанской компанией. Нормальное желание нормальных людей поесть спокойно, без соседства с теми, кого не перевариваешь на дух.
Надо было уже доставать мясо на завтрашний день. А для этого – пройти по открытой палубе, по над трюмом с бурлящими воронками жирной от глины воды, и уж потом спуститься в помещение судовых систем, где в закутке притулились морозильные камеры и холодильник.
Приходить сюда у Ячменева получалось пока только «по темноте». Нет – и палуба, и переходный мостик над трюмом были прекрасно освещены судовыми прожекторами. А вот за пределами судна разливалась уже фиолетовая темнота, мерцающая где-то вдалеке огоньками стоящих на рейде судов и вереницей береговых огней.
Ячменев уже выделил для этих походов большой черный мешок для мусора – тот был достаточно прочен и вместителен.
Пройдя по переходному мостику с гордо расправленной грудью – из рубки же могут видеть, - он отворил тяжелую дверь и по наклонному трапу спустился в выделенный ему закуток.
Надо было определиться, что он будет готовить завтра?.. Так, на обед - без затей запечет в духовке окорочка. Возни с ними на три копейки - только майонезом обмажь, посоли-поперчи, на противень с водичкой - и в духовку, на 200 градусов. А потом уж только смотри, чтоб не сгорели – «шара»!
На ужин отварит язык – тот лежит в холодильнике в судовом коридоре, там же «бревнышки» сухой свинины, которую только на суп и пускать – это на первое. Получается, отсюда надо было принести лишь коробку окорочков, ну и тогда захватить полдюжины буханок и батонов хлеба.
Высокий хлебный холодильник был перетянут от качки широкой грузовой лентой. Завязана на леере (перилах судовых) по первому приходу сюда Ячменева лента была, прямо скажем, на дамский бантик: предшественник ли Алексея Андреевича, или боцман так неумело крепили по-штормовому - неведомо. В любом случае – хмыкнул про себя Ячменев – кичащегося своим боцманством здешнего пацана по морским узлам заткнет он за пояс и затянет, как ленту эту!
И он, просунув один конец в бурлацкую, повязанную Ячменевым в первый же день, петлю, «на рычаге» затянул так, что холодильник покачнулся в противоположную сторону, и в две секунды закрепил-завязал на леере.
Вот за эту-то комбинацию – с бурлацкой петлей – о получил двойку на выпускных экзаменах по морскому делу…
- Алексей, ну ты-то, ты-то! - истошно вопил «мастак» - мастер производственного обучения в кителе с погонами о двух полосках у вензеля – штурман, - и театрально воздев руки кверху, отпрянул в сторону.
Они здорово враждовали – «мастак» и новый директор училища Бакаев. Невесть, почему. Молодой директор талантливо соединял перестроечные процессы с непременными флотскими дисциплиной и выучкой – а куда ж без них! Мастер же был еще более либеральных, чуть ли не диссидентских взглядов, к тому же сентиментален сверх флотской меры, к тому же годами директора старше( возможно, сам на это место метил). В общем – как кошка с собакой в стенах училища бывшие штурманы дальнего плавания, ныне коллеги педагоги сосуществовали. Понятное дело, для директора с характером лучшего повода уничтожить морально мастера, чем сдача выпускных экзаменов его группы, и придумать было нельзя.
Солнечным июльским днем, на баке (носу) стоящего в порту траулера все происходило. Уздечкин на пятерку отмахал флажковый семафор, на четверку оттягал капроновый канат на швартовых операциях, дальше были морские узлы.
Директор, с нескрываемым удовольствием «валил» всех подряд. Он просил не просто завязать какой-нибудь узел – он придумывал к тому узлу реальное применение.
- Вот, завяжи мне на скобе прямой узел, - держал он железную скобу в своих руках, с улыбкой наблюдая вмиг вспотевшего над непривычной задачей учащегося.
Тот терялся без пространственного воображения, а Ячменев, изнывающий за спиной товарища от элементарного решения, лишь кривился в сочувствии и притопывал от нетерпения: «Эх, мне бы это!».
Ячменев учился с душой. Он был тогда, тридцать ровно лет назад, честным, открытым всему миру душой юношей. Наивным, конечно, но любимым в группе, разбитным рубаха – парнем. С чувством юмора несомненным.
Ячменев легко бы справился сейчас с каждым заданием – узлы он муштровал тоже от души – в кармане брюк всегда была тонкая веревочка («кончик», вообще-то, по-морскому), которая чуть не каждую свободную минуту извивалась чудными хитросплетениями. И директор это знал. Потому и приберег особенное…
- Так, а тебе!.. А тебе, стоящему вахту у трапа, вахтенный помощник капитана велел натянуть леерное ограждение, чтоб оно звенело – как струна: чтобы люди не упали. Ну-ка!..
Повисла, как водится, тишина. Все обступили пятачок, на котором Ячменеву надлежало блестящим образом вывязать злосчастный, одному ему теперь конечно ведомый узел, и навешать тумаков тем самым этому развеселому черту - директору. Рассчитаться по полной за них всех вместе, и каждого в отдельности! Отомстить.
А Ячменев, сам теперь растерявшись, стал вязать какой-то простой штык, от которого вяло протянувшийся кончик уж точно не звенел.
С воплем впал в отчаяние (и любимый ученик не спас его профессиональной чести) мастер, а ехидный директор, спрятав улыбку, безоговорочно кивнул:
- Два!
Ячменев до сих пор помнил то свое чувство полного опустошения: год учебы в училище, где их группа готовилась стать первоклассными матросами-мотористами, потерян впустую, и никогда ему не увидать синего моря и дальних стран за ним! Прощай, светлая мечта!..
Но, все оказалось отнюдь не так трагично, а даже хорошо: в итоге за экзамен всей группе без исключения выставили четверки за экзамен. «Потому что среди вас шлангов нет», - резюмировал дело мужик- директор.
А отходчивый «мастак» показал Ячменеву, как надо было выполнить задание. Дело в том, что тут нужна была уже комбинация из двух узлов.
- Вот здесь, ближе к концу, вяжешь бурлацкую петлю, заводишь кончик в кольцо трапа, и обратно – в эту петлю. И – натягиваешь: получается рычаг!
Ах, вот оно что! Проще, на самом деле, пареной репы!
И сейчас, карабкаясь с объемным, тяжелым и не слишком-то удобным мешком вверх по крутому трапу, Ячменев в сотый, верно, уже раз подошел и взял в руки тот самый кончик, хитро глянув при том на ушлого директора:
- Как струна, говорите?
В три секунды он ловко закрутил бурлацкую петлю, вдел в нее свободный конец, по-молодецки лихо затянул на рычаге, и зафиксировал простым узлом окончательно. И тут же, подхватив пальцами рук этот конец, как гитару, начал дергать – теребить, заведши при том во весь голос:
- Как провожают пароходы… Совсем не так, как поезда!
Громогласный хохот товарищей грянул в ответ: вот это умыли они маститого директора! А тот, терпеливо выждав, пока смех и возгласы поутихнут, всей ладонью указал на Ячменева:
- Вот таким и надо в море быть!
А что – все правильно сказал!
Сильные порывы ветра сбивали дыхание, но Ячменев с улыбкой нес свою ношу через все судно. А на переходном, через весь открытый трюм, мостике можно было положить коробку, упрятанную в мешок на стальные поручни, и толкать ее перед собой: сплошная механизация!
Он заволок мешок в надстройку, как всегда повоевав пред этим с самозакрывающейся упругой дверью, почти вбежал на камбуз, бухнул мешок на стол у мойки и только тут задохнулся.
Да – Ячменев задыхался теперь после подъемов тяжести, особенно если при этом приходилось совершать с несомым грузом восхождение. А тут, получалось на обратном пути – три трапа и один высокий приступок – так, где через блок постоянно елозил толстый стальной трос. Откуда взялись эти приступы удушья – Ячменев так и не знал. Помнил только точно первый – восемь лет назад, в трюме, когда он, еще будучи трюмным матросом, бойко подавал наверх упаковки гофротары, один сердобольный матрос сказал ему вниз:
- Ты если устал – давай подменим!
А Ячменев и не устал вовсе – баловство какое: в былые времена он вообще – как пулемет эти короба подкидывал – не успевали забирать!
И вдруг – он задохнулся… Крепко – так, что не смог подавать больше, а лишь отошел в дальний угол трюма – чтоб не увидели, и там, упершись руками в переборку, стоял чуть согнувшись в поясе. Глубокие вздохи пропадали где-то внутри, ему не хватало воздуха. И он опять и опять хватал его широко открытым ртом, как рыба. Глаза лезли на лоб. Стало так нестерпимо жарко, что он сбросил с себя фуфайку. Так и простоял минут сорок – давно уж достали без него тару и, посвистев, звали наверх, но он лишь махнул рукой: «Мне еще здесь, в трюме, сделать надо кое-чего… Спасибо, парни, что без меня управились!».
И с того дня – стоило ему только вспомнить, подумать о дыхании во время движения, как он тотчас начинал задыхаться. Воздуха не хватало, как глубоко он не пытался вздохнуть (говорили, что вот этого-то при приступах и не надо делать), он хрипел, мышцы спины и шеи напрягались чуть не до разрыва, и болели потом несколько дней. Впрочем, и задых стал случаться чуть не ежедневно.
Конечно, надо было бы за столько дойти до специалиста, но Ячменев так и не собрался. Поэтому, так и не выясненной оставалась причина. Врачи и терапевты по случаю грешили на годы и тромбофлебит ног, неизбежно в трюмах с их десятками тысяч тонн, заработанный; на психосоматический эффект и даже на межреберное защемление в результате забытой травмы (не припоминал Ячменев ничего подобного, но на в правой стороне груди действительно от нагрузок тянуло). Скорее всего: все вместе, в придачу еще к пивному животу.
Досадно, конечно, было Ячменеву – уж отсюда беды он никак не ждал. Разве мог подумать он, совершавший к своему удовольствию длительные пробежки всю жизнь ( он даже в морских рейсах бегал – по промысловой палубе, когда была возможность, и по боковым, у надстройки, проходам), что будет задыхаться под ее конец!
Он и в училище, кстати, на экзамене по физкультуре, закончил километровый забег с лидерством в десятки метров. Пожилой, сухощавый и тщедушный физкультурник не мог, за изгибом дороги, видеть самую середину дистанции, где, добежав до означенного бордюра, следовало поворачивать обратно. Так вот – Ячменев уже тогда оставил всех позади, и , по-честному оттолкнувшись от бордюра в обратный путь, увидал следующую картину: задыхавшиеся метрах в двадцати-тридцати товарищи с загнанными глазами останавливались не добегая, и ожидали теперь лидера, чтобы на таком же расстоянии увязаться вслед – полсотни метров, а еще несколько десятков секунд отдыха и сэкономили, шельмы (это он по-доброму, конечно)!
Какая ему теперь работа где бы то ни было, где предстояло бы таскать хоть что-то тяжелое? Работа в офисе за компьютером ему точно не светила. А работать придется все равно – чуть не полтора десятка лет еще. Торчать ему на своем камбузе, никуда не высовываться – до самой пенсии, а то и дальше!
У Ячменева теперь, как самое дорогое, баллончик для дыхания всегда с собой был. Только здесь в каюте он оставался, и забывал частенько перед походом на бак Ячменев профилактически его использовать.
Отдышавшись на сей раз в каких-то пятнадцать минут (приступ не был сильным, иначе полчаса бы, самое меньшее, колотящееся дыхание утихомиривать пришлось), в которые он хаотично все же хозяйствовал на камбузе, Ячменев вышел в салон с тряпкой в руках и полотенцем на плече, чтоб в последний раз за сегодня убрать столы. А надо было еще сделать сырно-колбасную нарезку и подрезать хлеба – на ночную вахту. Ужели он закончит и сегодняшний день?
А куда денется? Только если – за полночь уйдет.
И когда вся эта суета была проделана, на пороге возник здоровяк электромеханик. С ранимой, тем не менее, душой: пару дней назад при вот таком же появлении Ячменев спросил с нотками едва улавливаемого неудовольствия в голосе: «А ты что – еще не ел?». И радостный взор электромеха тут же потух, как у обиженного ребенка, и развернулся было он на выход, и Ячменеву натурально силой пришлось удержать и развернуть в сторону раздачи бессовестно опаздывающего.
Еще и нянькайся с ними! За свое же потерянное время.
Но электромеханик был безусловным здесь другом Ячменева. Когда Алексей приготовил манты на ужин – почти настоящие (сноровисто налепив сто штук – с запасом, из расчета по пять на порцию, - Ячменев отварил руколепные изделия в кастрюле с водой, а потом подсушил в духовке на противне: ну, а где бы он мантоварку взял?), то электромеханик, опоздав вот также, умял и свою порцию, и запас, оставшуюся парочку мантов прихватив на тарелке в каюту: «Потом поем: чего-то пока не лезет».
- Скажу завтра капитану, чтобы тебе зарплату добавил – за такие манты!
Ячменев лишь кисло улыбнулся в ответ. Друг Саня шепнул ему уже после ужина, что боцман с Карлик-носом похулили манты из-за рубленого лука: «Лень ему было по-другому».
- Так подожди, - опешил от такого рассказа Ячменев, - лук и должен быть в мантах – рубленым – чтоб сочнее были. По уму, и мясо должно быть мелкопорезанное, это уж я – ладно! – через мясорубку прокрутил.
А ведь грешным делом, думал на этот счет Ячменев. Прокрутить луковицы, или, по классическому рецепту - порезать? И как раз-таки из-за этих двоих – ну и подпевалы-сварщика в придачу – решил делать по рецепту: чтоб не докопались. А они все равно!.. Да еще: «лень»!
- Я им тоже говорю, - сверкнул глазами Саня, - ему бы легче было через мясорубку лук пустить. Но – им разве что докажешь?
А и не надо – не надо с дураками связываться: железный жизни закон!
Ячменев разбросал – растолкал все нарезки- заготовки по холодильникам, и теперь оставалось только мытье любимой палубы.
Да неужели?!
Прежде всего, он нашел в работающем с самого ужина телевизоре канал «Матч ТВ». Жаль, что сегодня уже не было футбольных еврокубков – то был трехдневный маленький праздник Ячменеву – вечерний бонус за труды дневные. Но, сегодня баскетбол краем глаза посмотрит – тоже евролига, тоже за наших поболеть, хоть и «наших» там – только буквы на майках…
Телевизор – да, это было благо, это была отдушина! Ячменев и не помнил. Когда он в последний раз до этого телевизор смотрел. А тут принялся – с радостью. Старые, добрые, сплошь из советских времен, фильмы. Даже заштатные, которые в свое время просто не стал бы смотреть: «Тоска!». Но теперь они в своих пейзажах, лицах, диалогах несли неизгладимую печать времени. Игра актеров была несравненно правдивой :»Верю!..Верю». и каждый сюжет нес какую-то ясную и благородную мысль.
- А сейчас что! – высказывал он пару дней назад Сане. – За двадцать пять лет, заметь – ни-че-гошеньки стоящего, ничего хотя бы рядом стоящего с какой-нибудь «Иронией судьбы», или рукой бриллиантовой, «Покровскими воротами»… Казалось бы – вот вам: отменили цензуру: твори – не хочу! И ничего ровным счетом! А почему? А потому что сюжетов – нет!.. Нет сюжетов – о чем писать? Тема только одна – огромные деньги, и как к ним добраться – по костям.
Саня, поблескивая восточным взором, давно смотрел в мерцавший экран, потягивал чаек, и в пафосных паузах пламенной речи из приличия кивал курчавой головой.
Кстати, надо было поспешать с помывкой салона – друг любезный имел обыкновение появляться в самый разгар настоящей флотской приборки, и со словами: «Я мешать не буду, только проскочу», залезал с ногами, в руки шлепанцы подхватив, на дальний диван и на час-другой «повисал на трубе» - начинал разговор по телефону с горячо любимыми женой и дочками.
Ну, как тут было его погнать?! Хоть мешал он, конечно – от души плескануть полное ведро воды, смывая мыльную пену, Ячменев уже не мог – друга бы обрызгал. Приходилось окатывать деликатно.
Ну что же – дружба тоже требует жертв.
Это Саша вахтил так! С восьми вечера прошелся по своему заведованию, чего-то там по своей работе сделал, и - в салон, на диван, к телевизору.
- Вот кому на Руси жить хорошо, а! – восклицал тогда Ячменев. – Вот куда надо было по жизни матросом забуриться – я бы и не слез отсюда сроду!
Саня белозубо улыбался.
- Мне тоже предлагали в повара перевестись – когда того повара списывали: «Давай, чего ты!».
- И чего ты, действительно? – распрямлялся со шваброй Ячменев. – Меня бы, дурака, от прилета сюда спас!
- Не-ет, – все с той же улыбкой покачивал Саня головой. – Чтобы меня списали?..
Ячменев знал, что у друга имеется поварские «корки». Не испытывал по этому поводу ревностных чувств совершенно, а даже и обрадовался: будет у кого по делу спросить, если что.
Помывка салона(«Настоящая флотская приборка – дома так не уберешься!») стала для Ячменева уже любимым делом. Он не уставал мысленно благодарить тех корабельных плиточников, что качественно, с нужным уклоном выложили белой квадратной плиткой палубу. Так, что можно было двумя опрокинутыми ведрами воды смыть хлопья белой пены, что с душой надраивал он морской круглой шваброй.
Судя по расширенным глазам боцмана, не раз мимоходом наблюдавшего процесс мытья (а «жало» свое он совал по привычке везде – голова отставала на полметра от идущего далеко уже впереди по коридору туловища), никто до Ячменева здесь так не делал. Но, да ведь – сам Бог велел: плитка была выложена добротно, шпигат был чист и принимал все водные потоки без задержки. Надраил палубу с разведенным в ведре порошком, хлобыстнул, смывая, пару ведер чистой воды – и заблестел белым кафелем салон: «Ё-моё: с новостроя такой чистоты не было!».
И это было – конец всех забот очередного дня. «День прошел – и слава богу!» - как учили армейские деды. И можно с чувством выполненного долга снимать и вешать фартук за дверь, выключать на камбузе свет, и, окинув хозяйским взглядом свои владения – все ли конфорки выключены – ненадолго его покинуть: через шесть, семь от силы, часов вновь прибывать сюда – сонным, и опять развивать бешеную деятельность. Но это будет уже завтра…
Он помылся в крохотном душе, с крючка которого с первого раза постоянно соскальзывало и падало в воду полотенце – подняв и стряхнув, приходилось скручивать его жгутом и с силой навьючивать на покатый крючок заново. А после по-армейски быстрой помывки надо было еще согнать в шпигат воду специальной резиновой шваброй – вайпером. Можно было, конечно, и прохалявить – за ночь качка худо-бедно разгонит лужу в шпигат, но Ячменев не ленился – пусть все будет до конца в этот день по-честному. В этот – и во все последующие. А чтоб была какая-то интрига, сам с собой заключал мысленное пари: «За семь гребков – сгоню! Раз, два, три…».
Сегодня он проиграл – двенадцать. Но- число-то хорошее! Апостольское.
Жаль – совершенно нечего было читать! В тумбочке найдена была лишь тонкая книга «250 блюд в микроволновой печи» - абсолютно ему бесполезная. И на то криминальное чтиво, что дюжиной потрепанных книжиц лежало на верху одного из шкафов в салоне, Ячменев тоже не позарился: забивать голову подобной чушью он считал для себя преступлением без оправдания. Приходилось ограничиваться страничкой-другой собственного блокнотика, который завел семь лет назад – тоже в трудный для себя год. Там были цитаты из Библии, изречения мудрецов, и немного собственных мыслей-наблюдений. Строго говоря, весь блокнот можно было прочесть за четверть часа, но – за каждым абзацем лежала целая бездна воспоминаний и переживаний. Так что, страничка на сон грядущий – в самый раз.
А была еще небольшенькая беда – замечательный бальзам «Спасатель», что был Ячменеву универсальным средством для (он и от ожогов, он и от царапин, он и вместо ежедневной мази для рук), был на исходе, и приходилось экономить его, смазывая руки перед сном, дозируя буквально по капельке.
Как-то в этот раз безалаберно Ячменев собрался – ни напальчников непременных целой горой, ни перчаток, ни бальзама даже хотя бы пару тюбиков… Не о том все голова болела.
Водрузив на нос очки – да, он уже читал в очках! – Ячменев наскоро прочел что-то, надолго задумался, переведя рассеянный взор на тумбочку, где рядом с иконками Николая Угодника, Ангела Хранителя и Григория Богослова стоял поваренок Антоша – его своими рукам связала ему Светлана. Большинство времени дня проводя в постели, она научилась благодаря интернету вязать детские игрушки – получалось у нее теперь это так здорово! И вот теперь Антоша – так назвал его Ячменев – в самом что ни на есть поварском современном наряде, колпаке и поварешкой в одной из четырехпалых рук, блестел бусинками своих добрых, наивных глазенок с растерянной теперь укоризной: «Ты ее бросил ? Ту, что явила меня на свет, а тебе всегда жизнь сохраняла – ты бросил ее больную?».
И Ячменеву оставалось лишь, бережно положив на полку блокнот и очки, погасить поскорее свет. Спасибо айфон, с заведенным сейчас будильником на половину пятого, еще несколько мгновений жил рядом светлячком в погрузившейся в темноту каюте.
А засыпая, Ячменев все еще размышлял о чем-то несерьезном, никому на самом деле ненужном и неинтересном. О том, что повар – профессия творческая. Его никак нельзя третировать: только свободный душой творец способен создавать что-то стоящее – быть может, шедевры… И плюя в душу повара, иные недалекие скудоумцы на самом деле плюют в свое блюдо: повар поневоле выплеснет то в свою готовку.
Засыпал Ячменев всегда почти моментально.
Ему не приснился сегодня вещий сон в кроваво-красных цветах, как местные гурманы все-таки сожрут его через месяц – нет! Ему снилось лето, дача, и Ячменев кроет крышу из металлочерепицы ярко-синего цвета, бойко кивая поблескивающему очками тестю, что на подхвате внизу: «А потом, Михал Иваныч, за баню возьмусь – я ж вам такую печку обещал сложить!..».
Только почему у черепицы этот цвет – сроду же Ячменев такого не желал? По дешевке, на распродаже, наверное, урвал. Но, разве не нашлось его любимого аквамарина? Того удивительного, сочного, свежего цвета морской волны, которая настойчиво шепчет все то же милое имя.