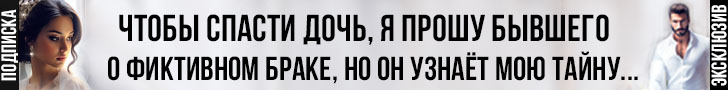Время невысказанных слов
VII. Ноябрь
Дотянуться до белых пальцев, встать на цыпочки, вытянуться, вздохнуть глубоко и… шагнуть! И едва не свалиться с кровати! И оглянуться по сторонам и понять, что сон закончился.
И вздохнуть, кажется, с облегчением.
Вспомнить, что снилось. Вспомнить руки, глаза и спину, прямую и сильную. Вспомнить смех и шутки. Вспомнить, как стоял не со мной, и смеялся не со мной, и целовал не меня. А про то время, когда меня, не хочется и вспоминать.
Солнце воровато скользнуло в комнату. Последнее ноябрьское солнце, вот–вот готовое попрощаться до весны. Я открыла глаза, потянулась, и Сэлинджер свалился с моей кровати, прошелестев страницами напоследок.
Мне что-то снилось… Нет.
Зазвонил телефон, приглушенный подушкой, и я тотчас же полезла за ним; протяжно вздохнула, увидев, кто звонит.
– Доброе утро всем Спящим Красавицам! – бодро выговорил Марк.
– Всем – да. А зачем ты звонишь мне?
– Интересный вопрос. Я не добрый посланник на этот раз.
– Что случилось? Смирнитский?
– Назначил репетицию на утро. Позвонил сейчас и велел собраться.
– Но… половина народа в школе, в универе… – я готова была зацепиться за соломинку, только бы не тащиться сейчас в театр. Я совсем не хотела вставать. Я совсем не выспалась после вчерашней репетиции. А сегодня у меня был единственный внезапный выходной на работе.
– Он сказал, чтобы пришли пока хотя бы те, кто есть. Остальные должны подойти позже. И потом – сегодня суббота. Совсем короткий учебный день. – Марк, судя по звукам, шел по оживленной улице.
– Он достал уже переносить репетиции! – заныла я, стаскивая себя с кровати и наступая на Сэлинджера по дороге. – Я понимаю, конечно, скоро премьера и все такое, мы все волнуемся, но зачем же свою истерию направлять на постоянно изменение времени репетиций! Все, Грозовский, встретимся на месте.
Ответом мне был короткий смешок.
Наступало самое страдное время перед премьерой, когда подготовка проводилась уже какими-то просто истерическими рывками. В качестве залога успеха стало модно постоянно обругивать действия главного, критиковать декорации, костюмы и реквизит, придираться к качеству пения и танцевальным номерам.
Необходимо было выпускать пар, и мы выпускали его друг на друга и в космос.
Смирнитский, конечно, не сошел с ума и не поддался истерии. Он хотел бы увеличить до невозможного время репетиций, но с постоянной всеобщей занятостью это было, извините за каламбур, невозможно. В последние дни мне приходилось менять свой график работы, грозя вызвать у Владилены тотальное недовольство моей персоной.
Мы, наконец, смогли спеться. Женщина, обучающая нас вокалу, добилась от нас «живого звука» – как она сама это называла, «призаткнула» тех, кто пел слишком громко и фальшиво, пробудила «тихих», выделила солистов и научила петь хором.
Нас перестало смешить наше исполнение, количество косяков на репетициях становилось все меньше и меньше, мы прорепетировали со светом и звуком и разобрали по домам костюмы, чтобы их постирать.
Мы были готовы, ну или почти готовы, ну или не так катастрофически неготовы, чтобы опозориться. Теперь же оттачивали детали и это оттачивание занимало чрезвычайно много времени, потому что как любил повторять Яша «детали складывают целое».
Премьера перенеслась на пятое ноября – всего лишь на шесть дней с прежней даты.
И в эту оставшуюся неделю мы практически не выходили из театральной студии.
И несмотря на катастрофическую занятость, усталость и недосып, не было, казалось, и не могло быть ничего лучше этих репетиций и посиделок в зале после репетиций. Этот жар от сцены, приглушенный свет и игра теней. И родные улыбки и звук закипевшего чайника, который Яша приносил из своей каморки. Особое чувство причастности к этому миру, к этим людям, таким разным, но похожим на тебя. Как будто нашел семью – это место, да еще и кафе действительно стали моей семьей.
День премьеры потряс своим приходом. Очень долго он был лишь в планах, как нечто неотвратимое, но далекое, он надвигался медленно, он был неосознаваем. Теперь он пришел.
Смирнитский волновался, актеры волновались, танцоры были в диком шоке. Максим и Марк волновались, но делали вид, что нет, и носились, и орали, и размахивали руками. Я смотрела на танцоров, пытаясь понять, как велико потрясение, и мое в том числе. Я уже не думала, что могу забыть слова от волнения или что с первой минуты мне придется поддерживать напряжение зала. Не думала, что мне придется петь сольно, чего я не делала прежде в жизни. Даже за танцы так не волновалась как прежде. Я словно застыла в ожидании этой премьеры, которая, казалось бы, решит все.
Я вышла на сцену, постояла, собираясь с мыслями в центре, ощущая кожей сгустившееся напряжение. Мимо носились люди, за кулисами усаживались зрители. Мне нравилось стоять по эту сторону.
Сцена пахла вкусно. Немного – пылью, краской от свежих декораций, цветами – еле уловимым запахом чьих-то духов, а еще – адреналином перед скорым выступлением. Воздух накалился и дрожал. Голоса зрителей раздавались будто бы с другой планеты, будто и не тонкая полоска ткани отделяла нас от них, а миллионы световых лет.
#2857 в Молодежная проза
#591 в Подростковая проза
#5514 в Проза
#1648 в Современная проза
Отредактировано: 30.03.2019