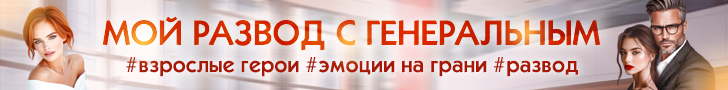Вспышка
Вспышка
Подыми голову, глянь на небо- и кажется, что и не небо над тобой, а чья-то большая холодная ладонь накрыла глаза твои и не дает открыть. В этом чернильном густом пространстве, казалось, совсем не было воздуха, казалось- разлили нефть по белоснежному холсту, и танцуют в этом нефтяном пятне вспышки красного, зеленого, какие-то лиловые вихры и завитки.
Кое-где нефтяное пятно смешивалось с сероватой фатой облаков. Жестокий ноябрьский ветер погонял их, сердито выдувая невеселую мелодию уходящего времени, уходящей жизни:
-Уходи-и-и-и, уходи-и-и-и…
Ветер носился по небу, носился по пустынным прямым улицам города, носился в разрушенных под обстрелами домах- влетал в разбитые окна, прохаживался деловито по комнатам, где совсем недавно было тепло и пахло воском, а после вылетал через все щели, расплескивал свою тоску нелюбимого никем месяца по улицам.
Ветер подхватывал редкие малюсенькие и колючие снежинки, устраивал с ними хоровод; казалось, будто это и не снежинки вовсе, а милые стройные девушки-гимназистки в своих аккуратненьких платьицах танцуют первый в своей жизни вальс… но и снежинки не решали одиночества ветра. Оставались они так же холодны и колючи, и ветер, обиженно взметая их стайку вверх, уносился прочь, шуметь и тянуть свою грустную песню, а снежинки растерянно оседали на мостовой.
Офицер Илья Морозов стоял посреди одной из таких пустынных улиц, запрокинув голову назад, медленно курил, старательно округляя рот, чтобы колечки сизого дыма выходили ровными кругами, но ветер, сердясь на свое одиночество, раздувал дымок тут же, безжалостно разрушая труды Морозова. Устало тот прикрыл глаза, и стоял так, в абсолютной тишине, нарушаемой лишь песнью ветра, глубоко, размеренно вдыхая морозный воздух с примесью запаха табака и еще чего-то тяжелого, мешавшего легким сделать полноценный вдох. Снежинки кололи его веки и подбородок, падали за шиворот шинели, обжигали шею своим холодком и стекали вниз уже крохотными капельками.
Офицер Морозов поднял веки, и все та же картина нефтяного пятна расплылась перед глазами. Не отводя взгляда воспаленных голубых глаз и не моргая, отбросил он сигарету в сугроб и повесил голову.
Ни души не было вокруг. Морозов чувствовал себя последним человеком на земле, таким же точно одиноким, как воющий ветер, который все стремился забраться под его шинель, украсть каплю тепла человеческого тела. Илья внимательно прислушивался к ощущениям на коже, пытался понять, отчего зябнет рука его без перчатки, и почему он не возьмет и не натянет ее, чтоб не мерзнуть. Но уже давным-давно в душе человека не было, казалось, места для чувства или мысли глубокой; Морозов ловил себя на том, что вместе с войной он стал жить просто так, просто жить, потому что его еще не убили. Не чувствовал он больше ни холода, ни голода, ни гордости, ни отчаяния; человеческое как-то проплывало мимо. Поначалу он жадно пытался поймать ускользающую жизнь своими большими мозолистыми руками, но она, как вода из чистого холодного ручья родной уральской земли утекала меж пальцев, сверкая своим ослепительно привлекательным блеском.
Морозов оглянулся. Пустынен был разрушенный город, пустынна была его душа.
Потоптав снег, поднял он руку без перчатки к глазам- она уже вся посинела от холода, и совсем не гнулись пальцы. Морозов попытался потереть шершавую щеку, покрытую грубой колючей черной щетиной, но рука ничего не ощутила. Он сунул ее в перчатку и, еще немного поглазев на призрачные очертания разрушенных домов, похожих на спящих монстров, пошел, нетвердо ступая, по улице, глядя все время четко перед собой.
Под ногами поскрипывал снег. Непривычно было идти по улице, где вся дорога впереди- заснеженная, нехоженая. Морозов хмурил брови, напряженно вглядываясь в черные провалы окон домов- а не покажется ли оттуда винтовка красного, не всадит ли пулю в его стенающую при каждом выдохе грудь? Но даже мысли о скорой внезапной смерти не возбуждали в Морозове прежнего чувства, не приливала кровь к голове и рукам. Он оставался так безразличен и хладнокровен к самому себе, как был и ко всем тем убитым, чьей кровью залиты были его воспоминания.
В липких красных и темно-бурых потоках тонули нежно оберегаемые в сердце картины уральских степей- бесконечных, желтоватых пространств, изредка перерезанных бедной сероватой лесополосой. В минуты, когда особо становилось страшно от тех глобальных изменений, сотрясших душу Морозова, он уходил мысленно в эту степь, ощущал резкий запах жженой травы, слышал тонкий писк куропатки и зовущие в голубую бесконечность небес журавлиные голоса. Уходил Морозов домой, где пахло хлебом и парным молоком, домашним творогом, соломой, деревом, свалявшейся тканью ковровых дорожек на крыльце. Как хорошо было бродить в этом доме, сохранявшем прохладу летом и обдающим с порога парным теплом зимой, слышать голоса родных и видеть их лица. Вот сидит отец и чинит сапоги- топорщится черная борода, строго глядят слезящиеся старческие серые глаза. Вот мать хлопочет на кухне, и цветастый платок ее то и дело сползает с седой маленькой головы. Вот сестры, их озорные румяные лица, красивые первым персиковым цветом юности, улыбающиеся, хитрые глаза- василькового цвета той самой голубой бесконечности, открывавшейся Илье в окне, на улице, в памяти.
Рывком заставлял себя Морозов возвращаться в суровый мир. Поначалу, открывая глаза и вновь видя перед собой незнакомую немецкую землю, взрытую конями и снарядами, он чувствовал, как сворачивается клубок в груди, как становится тесно в воротнике горлу и давит под глазами плач. Но уже давно не плакалось и не смеялось Илье Морозову, ни смерть товарищей, ни успехи белой гвардии не могли огорчить или порадовать его, некогда такого восприимчивого ко всему, что происходило вокруг.
Илья все пытался заставить себя усилием воли стиснуть зубы, чтобы те не стучали и не терлись друг о друга, но противный зыбкий ветер уносил тепло из-под его шинели, уносил милые сердцу картины и растворял их в своем холодном властном вихре.