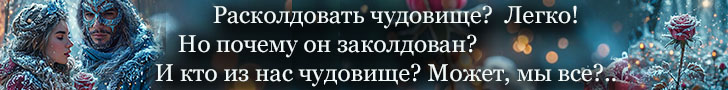Вторая волна
Вторая волна
1. Вторая волна
Сивцев взялся за холодный металл винтовки, пальцы обожгло. И спрыгнул в белую пелену. Привычно, как раньше.
Теплый запах дизельного выхлопа сменился ледяной сладкой свежестью. Сивцев вдохнул, закашлялся.
- Ложись! - закричал он сипло. - Тихо! Ложись!
Отделение легло.
Павленко замешкался, спрыгнул с брони последним. Олух, подумал Сивцев отстраненно. Павленко был самым молодым в отделении, из последнего призыва. Той войны он не видел.
"Я надеялся, хоть ты, дурак, попробуешь мирной жизни".
Равнина уходила до сопок, занесенных снегом. Сивцев пожевал снег, сплюнул. В голову пробило ледком. На ресницах налипло мокрым и сонным.
Т-34, бортовой номер 118, покрытый изморозью, курился на морозе. Броня заиндевела. Рваный брезент над движком, где так тепло ехать «махре», трепетал от горячего воздуха. Сейчас бы туда – лечь, согреться и спать долго-долго. До нового победного мая. Сивцев вздохнул.
- Эй, дядя! Вода есть? - окликнули его.
Сивцев сначала покачал головой, затем повернулся. Танкист, маленький и белобрысый. Зубы белые. Тоже из этих, послевоенных. Мальчишка.
- Вот и у меня... черт, - сказал танкист. - Так вдруг пить захотелось, сил нет. Эх, ладно. Рябина-ягода, бывай, дядя.
Он улыбнулся Сивцеву и побежал к танку. Молодой и красивый. Запрыгнул на броню, полез в башню…
- Какой я тебе дядя, - возразил Сивцев вдогонку. На миг ему стало жаль, что воды нет.
Танки вдруг взревели, выхлоп вырвался фонтанами, как у китов, дернулись один, другой. И пошли вперед, набирая скорость, и выбрасывая с гусениц снежную кашу. От чудовищного грохота и солярочной вони, казалось, это идут снежные драконы. Напором стали и огня. Фрицев так сносило. Крепкие немцы были, тяжело воевать с ними. Но мы их согнули.
Сивцев не хотел смотреть туда, где в небе висела ЭТА ШТУКА. Но краем глаза все равно видел, как неподвижно, невозможно раздвигает она белесый, насквозь простеганный морозом воздух. Громадная. Миллионы, тысячи ее ног шевелятся, идут, переступают. Но все равно казалось, что она совсем не движется.
- Я боялся, мне повоевать не придется, - сказал Павленко. - Я на фронт столько раз просился... даже бегал, поймали. Товарищ сержант, я...
- Помолчи, - сказал Сивцев. «Самое страшное — я больше не могу». Мы тогда уже, в сорок пятом, дожимали на износ. И когда ожили громкоговорители, сначала никто не поверил. А потом бывшие солдаты пришли в военкомат. Спокойно, точно каждый день этого ждали. Война не закончилась, это была передышка. Безногий Жорка-инвалид приполз на своей тележке. Пьяный и плачущий. «Меня бери!!» - кричал инвалид, и одинокая медаль брякала на лацкане пиджака. «Меня! Я пожил, а за них кто жить будет?!»
Через год после победы Сивцев женился. Детей пока не было. Может, и не будет.
Три года только после войны. Всего три. Только вдохнуть успели. И вот на тебе…
Танки шли.
Вдруг полыхнуло, и молния прорезала воздух. Передний Т-34 вспыхнул и почернел. Но остальные даже не замедлили ход. На бешеной скорости они проскочили сожженный танк. И теперь двигались зигзагами, словно играя в пятнашки. Ударила молния. Вспышка. Промах. Снежная равнина пробурилась и исчезла в черной проталине. Беззвучно вспыхнул еще один Т-34. Пламя было синее, горел металл. Танк вдруг взорвался, разлетаясь на тысячи осколков. Следующий притормозил — и выстрелил. Сивцев услышал грохот, совсем тихий в лязганье траков. Тридцатьчетверка тут же взревела, выбросила снеговые хвосты и сорвалась с места. Молния взрыхлила снег позади нее.
- Товарищ сержант, - испуганно прошептал Павленко. – Сигнал!
Сивцев увидел, как спокойно, неторопливо поднимаются слева и справа цепи стрелков. Как тогда, против немцев.
- Пошли и мы, - сказал он.
Они шли неторопливо. В пугающем деловом спокойствии.
Он вдруг вспомнил молодого танкиста, который пошел в бой, так и не напившись.
И сейчас несется вперед в танке и мечтает о глотке воды. Эх ты, Рябина.
В следующий момент голубая, невозможно яркая вспышка заполнила весь мир от края до края.
* * *
…он очнулся рывком. Было холодно.
ТА ШТУКА все так же висела в небе, но уже стемнело. Сизые тени легли на изрытый траками, изуродованный снег. По равнине курились десятки и сотни черных проталин. Сивцев повел головой. Невдалеке лежало черное обугленное тело.
- Павленко? – Сивцев позвал. Павленко молчал. Ветерок теребил волосы над его белым, смешным ухом. Глаза были открыты.
Сивцев посидел. Где-то там, под самым брюхом ШТУКИ, продолжал маневрировать, врубив фары, одинокий крошечный Т-34. Неужели 118-ый? Останавливался и стрелял. Смешной. Что он может сделать? Сивцев вытащил фляжку. Пустая. Отвинтил крышку и начал горстями засовывать в горлышко снег. Еще и еще. Пальцы дрожали. Хлопок. Над головой свистнуло, Сивцева толкнуло стеной воздуха. Зашипел снег. Сивцев поднял голову. В нескольких шагах от него догорал синим металлическим пламенем танковый трак. Снег вокруг него почернел и оплавился. Жар доносило волнами.
Сивцев встал и пошел.
Он протянул руку над пламенем. Смотрел, как лопается ткань и съеживается, чернеет вата. Падающими звездами вспыхивают и сгорают волоски на коже. Потом сунул кисть в снег. Пш-ш-ш. Боли он не чувствовал.
Сивцев побултыхал фляжку, прислушался. Глоток, может два. Ничего. Этого хватит. Потом встал и пошел вперед. Туда, где продолжал сражаться бортовой номер 118. Сивцев хотел в это верить. Надо просто дать ему немного воды. «И все будет хорошо. Я знаю».
2. Ошибка резидента
От вонючего папиросного дыма саднило в горле.
- Ты чего эту махру куришь? - брезгливо сказал Николаев, помахал ладонью. – На, мои что ль возьми.
Он бросил Михееву пачку «Казбека». Горец на фоне двуглавой снежной вершины. Говорят, эту картину для пачки Сам одобрил – поэтому их курили все в управлении. Папиросы первого класса.