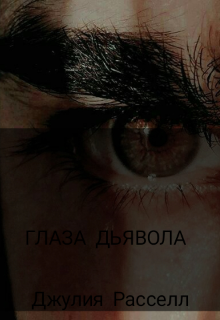Вверх
Вверх
(Очень короткий роман. Продолжение просто короткого романа «20 см»)
***
Ехать ещё оставалось долго.
— Мы что, на Марсе? — спросила она, оглядывая пустыню.
— Это Земля.
— Странно. А земля, будто Марс. А на Марсе земля есть?
— Есть. Почвы нет.
— Значит, земля там всё-таки есть?
— Земля есть. Но Земля всегда тут.
— Но я бы не хотела жить тут. Как на Марсе. Правда, ведь тут как на Марсе?
— Нет.
— Не похоже?
— Нет.
— Почему?
— Потому что горизонт. На Марсе он близко и сразу загибается вниз. А здесь далеко и выгибается вверх, словно мы катимся по дну чаши. Это говорит о много большем пространстве.
— Но это всё же Земля?
— В мире везде Земля.
— Значит, просто такая большая?
— Просто.
Какое-то время они ехали молча.
— А на Марсе принцессы живут?
— Нет. Думаю, что нет.
— Это несправедливо. Если там есть земля, должны жить и принцессы.
— Это почему?
— Потому что Маленький Принц. Он ведь жил. И ещё он выращивал цветы.
— Он жил на астероиде.
— А на астероиде была земля?
— Почва? Нет. Как минимум, не должно.
— Вот видишь! Земли нет, почвы нет, а цветы росли. И принц был. Значит, и принцесса могла тоже быть. А я когда-нибудь стану принцессой?
— Нет.
— Почему?
— Принцессами нельзя стать. Ими надо родиться.
— Ну знаешь.
— Не хнычь.
— Я не хнычу. Я просто немного грущу, ты же видишь.
— Вижу. Грустишь.
— Значит, это всё?
— Что это всё?
— Всё так плохо? И никакого выхода?
— Да. То есть нет.
— А что нет?
— Ты можешь стать королевой. Принцессой нужно родиться, а королевой можно стать просто так.
— Просто так? Тогда я стану королевой.
— Это можно.
***
За большим, от пола до потолка, окном кабинета болталась пара мойщиков окон. Зависнув на фоне такого же зеркального небоскрёба напротив, они быстрыми размашистыми движениями наносили на стекольное полотно белёсый мыльный раствор и тут же убирали его резиновыми скребками. Получалось красиво и прозрачно. Везде, кроме одного места. Это там, где внутри кабинета спинкой к окну стояло большое офисное кресло. Оттуда на стекло брызнула какая-то зеленоватая жидкость. Мойщики сразу поняли какая и немного замедлили работу. То была гемолимфа, уже заметно позеленевшая, а развороченный затылок хозяина кабинета прямо наводил на простую мысль, откуда взялась эта гемолимфа на стекле. Рядом с креслом стоял полицейский. Он показал мойщикам кулак, понуждая их работать быстрее, не глазеть, но те с ухмылкой поправили на носу защитные поляризованные очки, позволявшие им смотреть внутрь, достали бутерброды и термосы и устроили себе перерыв, совмещая отдых с детективным фильмом вживую.
Внутри кабинета никому не разрешалось ничего трогать. Простреленная голова спокойно продолжала лежать над подголовнике кресла, подсыхая, как и всё тело.
К счастью, жидкости в старике оказалось совсем немного. Он высох ещё при жизни, усох. Толстая трубка сердца, проходящая вдоль спины и гонявшая кровь лишь в одном направлении, к голове, в последние годы совершенно закостенела и сейчас торчала из раскрытой груди, как старый пластиковый велосипедный насос, достойный наконец быть выброшенным на свалку. Два полицейских медика, давно подтвердивших факт причинения смерти двумя пулями в грудь и голову, по-прежнему сидели на кухне и ждали, когда им разрешат забирать тело.
В комнате для переговоров полиция развёрнула штаб. Худая и тоже вся высохшая престарелая секретарша, которая, придя на работу, и обнаружила шефа убитым, угощала полицейских кофе и плакала всякий раз, когда её спрашивали о боссе, и вежливо улыбалась, когда спрашивали о чём-то другом. С улыбкой она поставила перед старшим следователем крохотную чашечку кофе и не забыла сначала подсунуть под неё кругленький бумажный кружочек, дабы не поцарапать лак. Будь её воля, она бы подсунула дюжину таких и под пистолет, лежавший прямо на столе и уже немало попутешествовавший по столешнице из одного конца в другой. Пистолет был тяжёлый подарочный, именной, с гравировкой. Кто бы мог подумать, что этот высохший старик, когда-то командовал взводом герильерос и даже имел звание гвардии лейтенанта армии Его Превосходительства Председателя Правительства. Впрочем, у бывшего лейтенанта и сейчас под командой был целых взвод… лютых адвокатов, чёрных нарукавников, канцелярских крыс. Был.
Факт убийства двумя пулями в голову и в грудь казался неоспоримым, но старший следователь всё ещё сопел, думал. Самоубийство тоже не исключалось. Всему виной были медики. Это они сказали, что правая рука старика «очень неплохой биопротез».
— Что значит, неплохой? — хмуро придрался следователь. — С точки зрения технического совершенства или по шкале «цена-качество?
— Робот,— ответили медики, — потому что весь чёртов робот. В принципе, такие можно запрограммировать, и они будут действовать сами.
Теперь медики сидели на кухне и злились на то, что им не дают забрать тело.
Старший следователь всегда морщился, когда техника лезла не в своё дело. А теперь резко разлюбил и биопротезы, те, которые сначала стреляют своему хозяину в сердце, а потом ещё и в рот. Или, может, наоборот. И хорошо, что, войдя во вкус, потом не стреляют по всем, кого угораздит не вовремя зайти.
***
Мойщиков окон с их термосами и бутербродами было хорошо видно с крыши небоскрёба напротив. На этой крыше, как и на множестве других крыш города, также располагался солярий. В раннее рабочее время здесь было практически безлюдно. Несколько рядов лёгких тканевых шезлонгов и столько же крепких пляжных лежаков их с жёсткими матрасами были выставлены так, чтобы, пусть с напряжением фантазии, но напоминать морские волны. При этом все волны, противореча природе, сходились к павильону, стилизованному под пиратский корабль. Его грот-мачта была густо и бестолково замотана в такелаж, а на самом верху под напором вентилятора, установленного на марсе, трепетал флаг. Флаг Его Превосходительства Председателя Правительства. Чёрный, с вензелем, состоящим из четырёх белых букв ЕППП, больше похожих на арабески и находящихся под охраной четырёх гнутых скрещённых сабель в углах развевающего полотнища. Шутка архитектора, сказал бы любой, глядя на этот флаг, но, возможно, задумался.
Попасть внутрь пиратского корабля можно было только снизу, на лифте. В трюме находились кабинки для переодевания, на палубе — небольшое кафе. Обеденный час ещё не наступал, и желающих погреться на солнце было мало. Кто-то лежал животом вверх, кто-то животом вниз, кто-то на боку. Солнце равномерно жгло из одной единственной точки. Солнце постоянно находилось в зените, оно не двигалось с места. На рассвете должным образом загоралось, на закате медленно гасло. Город к этому привык и больше не обижался, если его называли Городом-Без-Теней. Да и как он мог обижаться, если теней не отбрасывали сами его жители? Путь некоторые носили широкополые шляпы, чтобы хоть как-то обозначать себя на асфальте. Пусть другие жестикулировали по поводу и без повода. Потому что это было даже забавно — наблюдать, как движутся тени от рук. Но эти художества наблюдались только днём.
Ночью в городе вспыхивали огни, всё сверкало, искрилось, горожане высыпали на улицы, веселились, каждый вечер отмечался какой-нибудь праздник, гремели салюты, трещали фейерверки, и тогда весь город шипел, как раскалённое на сковороде масло, которое брызгало на металл и тут же дымно сгорало. Но это ночью. С рассветом, когда просыпающееся солнце начинало долбить клювом в темечко и требовать идти на работу, разнузданный праздник теней уползал с улиц и если где-то ещё продолжался, то только не в офисах, заполненных мягким бестеневым светом. В офисах теней не было даже на полу.
Но, конечно, в помещениях любили работать не все.
В то утро на крыше небоскрёба, стоящего напротив того, где на окнах висели мойщики окон, работал художник. Он вышел на пленэр, рисовал городской пейзаж. Это был уже пожилой и когда-то очень модный художник с плоскими равнодушными глазами и с довольно длинным твёрдыми усиками, которые так мешали ему слишком близко наклоняться к картине. Что было очень неудобно. Художник был близорук и некоторые мазки наносил мимо. Впрочем, и масса ранее нанесённых мазков был положены совсем не туда, задумывалось изначально, так что картина не очень страдала. Она имела тот вид, который мастер давно уже имел у голове.
Вид с крыши на город его полностью устраивал. Художник стоял возле парапета, перед своим мольбертом, безжалостно заляпанным краской, и рисовал картину, главную роль в котором играл перевёрнутый чёрный зонтик. Зонтик плавал в море. Длинная ручка зонтика имела на конце золотой набалдашник, и тот пылал жаром, как солнце. Город был внутри зонтика. И поскольку он размещался на вогнутой поверхности, то и все здания силуэтами были устремлены к солнцу.
Время от времени художник останавливался и сравнивал вогнутый город в зонтике с плоским городом снаружи. Картина выигрывала. Искусство всегда побеждало жизнь. А вот после смерти гениями станут не все.
Рядом с художником стоял один из служителей солярия, молодой здоровый охранник с раздутыми хитиновыми плечами, маявшийся от безделья. Он критически приглядывался к картине, потом к городу и делал замечания. Художник парировал:
— Ну что ж, замечательно. Значит, цвет вам тоже не нравится?
— Не, не, — отвечал охранник. — Цвет пойдёт. Но вода какая-то плоская.
— Это море.
— Море плоское. Такого не может быть.
— Гм, не может быть. Надо ж так выразиться, — хмыкал про себя художник и поворачивался к охраннику: — Помнится, один гений как-то выразился в том плане, что само выражение «не может быть» и есть тот холст мироздания, на который нанесена жизнь. Вы в школе хорошо учились?
— Не, не, — показал рукой охранник. — И дома тоже. Они должны быть собраны в гузку, а этот смотрит не туда. Должен быть внутрь, а тут словно падает наружу.
— Что вы говорите! Падает наружу? Согласен, — художник прицелился и слегка подправил силуэт самого крайнего небоскрёба, отчего здание стало вываливаться из зонтика ещё заметнее. — Но это же здание Умбиликотеки, а разве не она отвечает за связь с миром вовне? Пуповина, как вы понимаете.
Охранник кивнул. Это он понимал. Им ещё в школе объясняли, что весь их мир — это такой огромный пузырь с живыми существа внутри, и все они живут на внутренней его оболочке. В центре пузыря — солнце. Учителя говорили, что однажды этот пузырь вылетел из большой-пребольшой воронки, где когда-то и зародился, а потом полетел всё выше и выше. Полетел, как воздушный шарик. И ещё у него была ниточка-завязочка. Она называется умбиликум, то есть пуповина. Эта пуповина и сейчас ещё где-то есть, хотя, говорят, уже оборвана и болтается, как аппендикс. Школьники путались. Они путали аппендикс и умбиликум, но тогда им говорили, что запомнить всё очень просто. В городе есть небоскрёб, который носит имя Умбиликотеки, потому что в нём размещено хранилище знаний, а вот ни одного здания, посвященного аппендиксу нет.
Всё это охранник мог бы запросто рассказать художнику, мог бы даже прочитать лекцию, потому что в тайне от всех писал большой фантастический роман. И уже написал целую первую главу с описанием своего выдуманного мира, однако потом решил немного передохнуть и устроился охранником в солярий. Увы, очень быстро привыкнув ничего не делать на работе, он отныне не смог заставить себя что-то делать и дома.
Художник же продолжал работать. Но теперь он работал молча, не оглядываясь и не отвечая охраннику. Он торопился закончить картину, потому что внизу уже скоро наступит обеденный перерыв и в солярий начнёт прибывать офисный народ, вокруг станет шумно и суетливо.
Охранник такие вещи понимал. Он даже понимал, что это не совсем культурно стоять за спиной работающего художника и смотреть на ещё не законченную картину. Перевёрнутый зонтик. Глупо. Будь его воля, он бы рисовал по-другому. Глубже, объемнее, более философски. Он бы и свою книгу сейчас начинал писать по-другому. Без темы воздушного шарика, вылетающего из воронки в земле. Это уже устарело. Есть куда более увлекающие сюжеты. Взять хотя бы миф об икринках, которые выскакивали из спины, вернее, из складок на спине огромной уродливой лягушки, олицетворявшей собой мировой хаос, первобытную грязь, и раскрыть то чудо, когда вдруг внутри одной из таких икринок вместо чёрной точки зародилась золотая. Впрочем, эту тему уже тоже использовали. В какой-то рекламе. Гадость. У этих рекламщиков ничего святого. Святое для них — это на Новый год изобразить мир в виде вафельного рожка с растёкшимся шариком мороженого на нём. Изобразить так, чтобы всем захотелось немедленно этот мир потребить. Съесть. Больные. Будто мало в городе сумасшедших, которые за малую денежку составят для тебя, а потом ещё и назовут твоим именем великую математическую формулу, по которой на самом-то деле окружающие миры суть лишь мыльные пузыри из взбитой пены времени и пространства.
Охранник ещё раз внимательно посмотрел на картину, затем перевёл взгляд поверх мольберта на город. Неожиданно стало чудиться, что все здания в городе тоже смотрят вразнобой.
***
Здание Умбиликотеки оставалось не в курсе, что оно наклонилось или, как минимум, его крыша съехала набок. По сравнению с тем положением, в каком оно виделось из другой части города, этим утром, напротив, здесь всё обладало исключительной стройностью — близкой к той стройности научных доказательств, какой привыкли оперировать учёные-умбиликологи. Шёл третий день их научной конференции.
— Привет! Что читаете? О!
Обложку повернули немного к солнцу, и на ней стало возможным прочитать «Вводный курс лекций по истории Первой Гуманитарианской цивилизации. Критические заметки».
— О! — повторил молодой гуманитарианец и добавил: — Сражён, — и плюхнулся на лежак рядом.
Конференция проходила в конференц-зале, но ещё до обеда многие из участников потянулись на крышу занимать места в солярии. Здешний солярий считался одним из лучшим в городе, более того, каждый вечер его пространство отводилось под ресторан с приличным банкетным залом. Подобного типа заведениями на крыше могли похвастаться только здания нескольких министерств да ещё Дом приёмов Его Превосходительства Председателя Правительства. Но здание Умбиликотеки и тут стояло на уровень выше. Может, и два. Оно было элементарно выше. Места для размещения новых знаний никогда не хватало, поэтому небоскрёб продолжал расти вверх. Он рос он буквально рос из земли. Достраивать его этажи оказалось удобнее именно снизу, откуда, откуда, как говорили, и добываются все знания. Говорили, что их ещё много в земле.
Гуманитарианка делала вид, что читает. С виду, она была заметно постарше плюхнувшего рядом соседа, в меру стройная, но «при бёдрах», которые, с точки зрения современной эстетики, надлежало бы несколько уменьшить. Кроме бёдер, она прикрывала полотенцем и большую высокую грудь.
— Я вам не мешаю? — спросил гум, вполне понимавший, что разглядывание чужой фигуры действительно могло мешать чтению.
— Нет, — ответила гума и перевернула страницу.
Молодой гум радостно улыбнулся. Он был впервые на конференции в Умбиликотеке и впервые наслаждался доступом в знаменитый солярий, где, как он чувствовал, мог по-настоящему прикоснуться к кругу избранных. Имел право. Был уже не студентом, а целым состоявшим аспирантом, то есть чуть больше, чем никто. А вот его соседка по лежаку, без всяких сомнений, давно и успешно преподавала. Это было написано у неё на лице. Ибо только у преподавателей гуманитарианских университетов постоянно живёт на лице выражение скрытой скорби, как бы говорящее: «я вот вам объясняю, а вот вы не желаете усваивать материал». Материал. Преподавание старит. В ответ на улыбку гума она тоже хотела улыбнуться, только сходу это не получилось. Подвели глаза. Глаза, честно говорящие, что улыбаться ей нисколько не хочется. Впрочем, надо. А всё, что надо, она должна делать безупречно. Гум заметил очевидный разлад в движениях её губ и глаз и ещё не решил, стоит ли на это реагировать, как она уже снова улыбнулась. Переулыбнулась. На этот раз удачно.
Гум не знал, как её зовут, и не представлялся сам. До первого тактильного контакта это считается невежливо, зато потом контакт скажет всё. Запахи через прикосновение передаются всей кожей, со скоростью электричества. Пока же они молчали. Она читала, он рассматривал её. Солнце не спешило покрывать зелёным оттенком те места её кожи, где скрывалась некрасивая бледнота. Нужно примерно полчаса, чтобы всё её тело стало приятно зелёноватым, разумеется, кроме зоны бра и бикини. Неплохой аперитив к началу обеда. Может, даже лёгкий перекус. Н-да. А кому-то такой перекус бывал и вместо обеда!
Студентами они этим способом экономили на еде. Жили на одной зелени, как принято было говорить. Для многих это был вопрос выживания: либо чахнуть на лекциях до голодного обморока, либо идти и загорать. Загорали жадно. Живущие в их коже сине-зелёные бактерии порой просто лопались от хлорофилла и скоро уже подавали сигнал, что достаточно уже расщепили атмосферного углекислого газа на: а) пригодный для строительства тканей углерод и б) на пригодный для дыхания тканей кислород, так что молодой организм мог легко считаться обманутым. Жаль, к ночи обман переставал действовать. Как раз тогда, когда и начиналась вся жизнь.
Гум закинул руки за голову и подставил живот одинокому неподмигивающему зрачку солнца. Подмигнул ему сам. Тут же фыркнул. То, что на его животе имелась татуировка в виде пупа, что тоже добавляло юмора. Хотя это чистая дурь. Вон военные, например, не выкалывают же у себя на плечах армейские погоны, но всякий студент, поступивший учиться на умбиликолога, первым же делом выкалывал на животе пуп — знак всемерного посвящения себя чистой науке, символ будущей принадлежности к почти жреческой касте учёных. Девушки часто делали этот пуп многоцветным, в виде распустившегося цветка или бабочки (он скосился на читающую соседку, да, у неё была бабочка), но большинство же выкалывало простую пятилучевую звезду. Сам статус будущих гуманитарианских учёных приучал чёткости понятий. Именно они и в гораздо большей степени, чем простые гумы, были обязаны походить на людей.
«Я почти уже человек», часто думал про себя молодой гум. Он добивался этого с самого детства. Последовательно прошёл через несколько гимнастических секций, тренажёрных залов и фитнес-клубов, по утрам изнуряюще занимался физкультурой, работал над своим телом даже больше, чем над получением знаний. И добился чего хотел. Та часть тела, которая при рождении, в раннем детстве, оставалась ещё чисто муравьиным брюшком, сильно откляченным назад, далеко за задние ноги, теперь успешно превратилось в небольшие упругие ягодицы; передние ноги полноценно заменили пару рук, ну а средние ноги благополучно преобразовались в нормальное мужское достоинство, пусть в одно, потому что другое редуцировалось напрочь, и пусть всё ещё смещённое вбок, как у большинства молодых гумов, но достойное таковым быть. Другие мужчины-гуманитарианцы, не изводившиеся себя столь большим количеством физических упражнений, походили на людей меньше. Однако и они массово записывались на несложные операции, чтобы перенести брюшко вперёд, отчего потом, особенно в пожилом возрасте, были вынуждены отводить свои узкие плечи назад, зачастую принимая потешный вид самоуверенных толстячков.
Женщинам было труднее, но и проще. Их «нижеспины» приходилось периодически редуцировать, уменьшать, зато, в противовес ягодицам, им всегда было можно безгранично увеличивать грудь. Эта грудь заставляла уважающих себя дам не только держать спину прямо, но и высоко нести голову, что для женщин-учёных служило также и важным отличительным признаком.
— Интересно, она выше меня? — вдруг подумал молодой гум и заранее расстроился: —Наверняка выше. И уж точно, крупнее. Сто процентов сидит на солнечной диете.
А вот здесь он по наивности ошибался. Женщины-учёные обожали носить брючные костюмы, так что в течение дня не никаких имели шансов позеленить кожу. А уж если когда и поднимались в солярий, то лишь с одной целью — познакомиться с кем-нибудь на ближайший день-два. Или просто на вечер.
Молодой гум повернулся на бок и снова принялся рассматривать соседку. Из-за её искусственной причёски, из-за волос, затенявших шею и плечи, а также из-за необходимости прикрывать полотенцем большие бёдра и бюст, солнечной радиации она получала меньше, фотосинтез шёл хуже, дама всё ещё оставалась бледноватой.
— Голодная, — решил по себя по молодой гум и стал думать, как бы поделикатнее пригласить её в кафе.
***
— А можно мне мороженого? — спросила она, когда в полдень жара усилилась и кондиционер в машине не справлялся. — Ещё лишь одно, ну последнее.
— Там последнее. Нет. Вечером, после ужина.
— Но сам же сказал, что холодильник скоро растает.
— До вечера не растает.
— А до вечера ещё долго?
— Ещё ехать.
— «Ещё» это долго?
— Смотря что считать «долго».
— А по-твоему?
— Ещё долго.
Так они ехали и разговаривали. Разговаривать было интереснее, чем не разговаривать. Горизонт постоянно загибался вверх, дорога шла на подъём и казалась бесконечной. Вверху было только солнце. Через час она снова заговорила:
— А если туда ехать долго-долго, мы разве не приедем обратно? Через небо. Поверх. Мимо солнца. Разве нет?
— Это как?
— Сделав круг. Можно же ехать внутри шара, разве нет? Это как и снаружи.
— Снаружи никто не ездит.
— А что там, снаружи?
— Бесконечность.
— А внутри конечность?
— В смысле объема – да.
— Мне нравится этот объём.
— Мне тоже.
— Значит, когда-нибудь мы приедем?
— Приедем.
— А куда?
— Туда.
— А куда туда?
Он молчал.
— Сам не знаешь. Правда ведь, сам не знаешь, куда мы едем?
— Туда и едем.
И они опять замолчали.
Когда зрак солнца в зените стал гаснуть и ровное покрывало сумерек опустилось на землю, они притормозили. Остановились прямо посреди пустыни и стали готовиться к ночёвке. Палатка, вода, продукты, газовый баллон, столик, стульчик — всё это он достал из багажника, разогрел на газу полуфабрикаты. Он был плохим поваром, но мог быть хорошим официантом. Пока она ела, он стоял рядом, немного позади, с салфеткой на локте и следил, чтобы она не запачкалась — стирать он совсем не умел. Потом немного перекусил сам и убрал всё обратно в багажник. Пока она гуляла невдалеке от машины, он постелил ей на заднем сиденье постель, заставил переодеться, лечь, накрыл её одеялом. Наконец все дела были сделаны. Он сел на пассажирское сиденье, оставив дверцу открытой и выставив одну ногу наружу. Начиналось время вечерней сказки. Про мороженое она забыла.
***
Завтракать Его Превосходительство Председатель Правительства (даже официально ЕППП, менее официально — ПП, а чисто по-домашнему — «папа») традиционно начинал с варёного яйца.
— Аб ово! — важно говорил повар, отгружая на кухне яйцо, сваренное им для хозяина лично. Он-то хорошо знал, что «аб ово» переводится «от яйца». Когда-то земные римляне именно с него начинали трапезу.
— Аб ово! — с лёгкой улыбкой говорил личный врач «папы», выполнявший во время раннего завтрака роль официанта. Мысленно он на всякий случай добавлял «от винта», поскольку в его положении всегда было разумнее держаться от столовых приборов подальше.
— Аб ово! — говорил и сам «папа», медленно очищая яйцо от скорлупы, осторожно кладя его на тарелку и беря в руки сверкающие нож и вилку. Затем он аккуратно яйцо разрезал на две одинаковые половинки. Изучение этих половинок составляло немалую часть церемониала утреннего принятия пищи. Яйцо должно было быть чуть-чуть недоваренным. Ровно настолько, чтобы в середине желтка оставалась приятная глазу влажность. Узрев эту влажность, «папа» удовлетворённо кивал, переворачивал обе половинки желтком вниз и выдавливал на них сверху немного майонеза. Майонез должен был оставаться в форме двух шишечек. Убедившись, что шишечки не падают, Его Превосходительство приступал к завтраку.
Впрочем, бывали дни, когда яйцо уже много заранее ожидалось плохо сваренным или даже — катастрофа! — несвежим, тогда у «папы» заранее сильно портилось настроение. Он негодующе выковыривал желток, а потом ещё долго размазывал его вилкой по тарелке, будто что-то выискивал. Латынь в такие моменты тоже удлинялась. Правда, этим грешил не сам «папа». Это делал его личный врач. «Аб ово Ледэ инципере. Аб ово Ледэ инципере», — неслышно проговаривал про себя врач, что означало «башкой бы тебя об лёд, цыпа драная».
В это утро яйцо было сварено на троечку. Не настолько плохо, чтобы метать во врача нож и вилку, но и шишечки майонеза на половинках яйца почему-то никак не держались. «Папа» не знал, что и делать.
Он был массивен, ногаст, головаст и имел довольно странный живот, требовавший прямо с утра доставления в него большого количества пищи. Но — диета. А всё потому, что его личный врач имел честь и совесть государственного мужа, искренне радевшего об интересах страны и прекрасно знавшего, что сытный обильный завтрак стопроцентно ввергнет страну в тупую прострацию. И уже на весь день. Так что вместо бездумного переваривания пищи (в животе) подопечному по утрам предлагалось поактивнее заниматься перевариванием важной информации (разумеется, в голове).
Доклад о состоянии дел делал тоже врач. Только бывший. Министр внутренних дел когда-то был военным хирургом, а поскольку бывших хирургов не бывает, то и отвечал за порядок в стране точно так же, как когда-то в полевом госпитале. То есть он всегда знал, когда пациенту возможно доверять правду полностью, а когда и доставлять её порциями в урезанном виде.
В это утро доклад о случившихся за последние сутки происшествиях ограничился лишь попыткой похищения документов в здании Парламента да ещё очень странным самоубийством главы адвокатской конторы, бывшего гвардейца армии Его Превосходительства Председателя Правительства, которого тот, возможно, знал лично. «Папа» не прореагировал. Ну, возможно, не знал. Министр продолжил. Далее шёл отчёт об успешном расследовании нескольких громких преступлений, дела о которых вот-вот будут переданы в суд. «Папа» удовлетворённо кивнул. Министр воодушевился и продолжил рассказ отчётом о судебном процессе над сектой «чистых сатанистов». Это тех, которые утверждают, что все жители страны суть чистые сатаны, поскольку не отбрасывают тени, обязанные напоминать всем живущим об их многочисленных грехах и, вообще, о тёмной стороне души. Без чего ни один человек не свят.
Председатель правительства поднял бровь. Сегодняшнее заседание, с удовольствием продолжил министр, будет посвящено одному интересному судебному эксперименту. Подсудимых заставят встать, после чего в зале заседаний задернут всё шторы, а на скамью подсудимых направят сильный луч света. Появившиеся на стене тени послужат для высокого суда весомым доказательством того, что тени всё-таки есть, а тот факт, что подсудимые действительно могут не отбрасывать тени, находясь на улице под солнцем, можно объяснить лишь физическим нахождением солнца постоянно в зените, и это касается всех жителей страны, хотя почему-то никто, кроме подсудимых, не спешит утверждать, что они — чистые сатаны.
Председатель правительства вздохнул. Он не мог прервать доклад министра внутренних дел, ибо служба есть служба, долг есть долг, но вздыхать имел всё же полное право. Министр всё понял и быстро перешёл к следующему пункту. Фракция пупистов в Парламенте сегодня в очередной раз потребует проголосовать резолюцию о роспуске фракции глазистов и законодательном запрете их партии. Обвинения прежние: подготовка государственного переворота, подрыв экономики, саботаж работы правительства и отказ от активной парламентской работы на благо страны.
— Дальше! — отмахнулся рукой от политики председатель правительства.
***
Два вора продолжали висеть на верёвках в шахте лифта здания Парламента. Первый был округл и крепок, как жук. Вторая худа, как червь. Лифт не работал. Об этом злоумышленники позаботились ещё со вчерашнего вечера. Но лучше бы уж работал. Так бы они спокойнее выбрались на крышу, где были припасены парашюты.
Предприятие не задалось с самого начала. Провалы в подготовке, плохая физическая форма, недостаток времени, но хуже всего оказалось то, что искомой папки сейфе не оказалось в, а потом их застукала охрана, и они всю ночь они провисели в лифтовой шахте, спрятавшись под кабиной грузового лифта, который никуда не хотел ехать. Ремонтники уже дважды пытались запустить лифт, но всякий раз безуспешно, отчего ворам приходилось вновь и вновь насиловать свой собственный ноутбук, чтобы получить доступ к цифровому двойнику здания и попробовать снова наладить работу тех служб, которые им так легко повезло, а сейчас так не повезло заставить крепко задуматься.
Лифт стоял на одном из средних технических этажей здания Парламента, и сквозь щель над порогом воры часто видели тяжёлые берцы охранников, бегавших туда-сюда, но последние полчаса — только лакированные туфли какого-то мужчины-сотрудника и такие же блестящие туфельки его сослуживицы. Рядом виднелись четыре колёсика от какой-то тележки.
Разговор между обладателями двух разнополых пар обуви больше походил на получение инструкции перед проведением тайной операции. Вор-жук и вор-червь уже несколько раз понимающе переглядывались, перемигивались, правда, последняя была склонна думать, что под видом инструктирования больше идёт процесс соблазнения.
— Времени у тебя мало, но и делать тебе фактически ничего не придётся, — говорили мужские туфли. — Главное, чувствуй себя своей. Он нашем «папе» отзывайся презрительно, можешь даже называть его паханом. Господи, какие испуганные у тебя глаза! Ну, не бойся, глупенькая, — затем последовала пауза, в ходе которой туфелькам пришлось встать на цыпочки. — Ну ладно, отвлеклись. Тсс, не оглядывайся. Веди себя так, как будто нам нужен грузовой лифт. А вот о главе государства отзывайся, именуя его полный титулом Его Высокопревосходительство Глава Государства. Если даже кто-то говорить Ев-Гэ-Гэ, ты сама так не сокращай. Его Высокопревосходительство – будет более уместно.
— Тебе больше не нравится меня целовать? — спросили туфельки.
— Погоди. Сначала дело. Вряд ли тебя начнут серьёзно проверять, времени на это не будет, но ты обязана всегда помнить разницу между пупистами и глазистами. Не забывай, что первые верят в то, будто все знания к нам поступают через пуповину, через Умбиликотеку, откуда и распространяются во всему миру. То есть мы живём полностью чужой счёт, читаем чужие книги, смотрим чужие фильмы, переживаем чужие эмоции. Запомни, за чужой счёт и чужие эмоции. Запомнила?
Туфельки ничего не отвечали, но чувствовалось, что они не во всём согласны. Их тонкие каблучки покачивались и немного подрагивали. Они переживали свои собственные эмоции.
— Если спросят про твои убеждения, то ты, конечно, глазистка. А если не спросят, всё равно как-нибудь проговорись, что мир может быть и другим… Ну не дуйся. Не обижайся. Ну не надо надувать губки. Они у тебя и без того прелестные.
Последовал быстрый чмок. Потом, видимо, ответный. Настала долгая пауза.
— Ну, хватит, — сказали, наконец, туфли. — Всё равно ты должна, пусть даже на интуитивном уровне, понимать, что мир вовсе не пузырь, не воздушный шарик, где его ниточка-завязочка исполняет роль пуповины… знаний. Якобы знаний. Не знаний. Не знаний вовсе! — мужские туфли вдруг тоже показали эмоции, их правая даже притопнула. — В реальности, ты всегда должна помнить, мир имеет чёткую форму глаза, глазного яблока. И что наше солнце, которое мы постоянно видим в зените, это фактически зрачок, и что весь наш город в сущности не что иное, как сетчатка глаза, а то, что мы по наивности принимаем за пуповину, это попросту глазной нерв, да и сама Умбиликотека фактически слепое пятно, то место, где нерв крепится к сетчатке. Как видишь, ничего сложного. Вся разница в образах. Достаточно их запомнить, а дальше всё очень легко.
— Я поняла, — тонко пискнули туфельки.
— И ещё. Возможно, в каком-нибудь разговоре встанет вопрос о потоке знаний. Куда он течёт. Туда или сюда. Так вот, запомни, в реальности он течёт туда. Не через пуповину откуда-то с Земли к нам, а прямо через зрачок солнца, прямо через нас, через наш глазной нерв куда-то на Землю. Запомнила? Мы лишь передаточное звено чьих-то знаний. Но пока ты лучше не злоупотребляй словом «знания», лучше используй слово «информация». Поняла?
Туфельки снова встали на цыпочки, и снова на некоторое время стало тихо. Потом обе пары обуви начали как-то странно передвигаться, даже стронули четыре колёсика от тележки. Вероятно, они танцевали, потому что по нескольку раз поменялись местами.
— Наконец, — остановились мужские туфли. — Тебя, конечно, не спросят, однако нельзя исключать, что, возможно заинтересуются, откуда, мол, простая молоденькая секретарша что-то знает о расположении комнат в резиденции Его Высокопревосходительства Главы Государства. Ты засмеёшься и скажешь, что ты совсем ничего не знаешь. Сов-сем. Ни-че-го. И тебе поверят, потому что ты дурочка. Ну-ну, не надо. Ты не дурочка. Это маска. Просто ты совсем ничего не знаешь. А почему? Потому что… Что? Потому что, как стало тебе известно… Ну говори!
— Что?
— Потому что ты знаешь, что любые знания слепы! Они пролетают мимо нас, никого не трогая и не задевая. И мгновенно утекают через слепое пятно, разве нет?
— Нет. То есть да.
— Которое?
— Которое что?
— Которое находится где?
— В Умбиликотеке.
— Умница! — отчётливо раздался звук поцелуя. — Знания слепы. Им никогда не следует доверять. Доверять можно только… скажем, мне.
Туфельки хихикнули.
***
Они снова ехали. Пустыня уже не казалась ровной. Появились небольшие холмы и овражки.
— Она специально.
— Что? — спросил он.
— Он специально потеряла туфельку, — сказала она, вспоминая вчерашнюю вечернюю сказку.
— Думаешь.
— Ага. Или они ей сильно надоели. Танцевать же в хрустальных туфельках очень неудобно.
— Ты пробовала?
— Ещё нет. А если бы туфельки разбились? Однажды я ходила по стеклам, когда разбилось окно. Жуть! Они так страшно хрустят.
— Там неточность.
— И ещё ведь, наверное, они были немного тяжёлые, да?
— Вообще-то, да. В хрустале есть свинец.
— Свинец?
— Да.
— Значит, у Золушки были очень сильные ноги. Рабочие.
— Крестьянские.
— Крестьянские?
— Да.
— Но я бы такие туфельки всё равно не надела. По-моему, они ещё хуже, чем деревянные башмаки Нильса, ведь скажи?
— Скажу. Правда, он-то башмаки не терял, хотя и летал верхом на гусях.
— А, может, он их подвязывал? Верёвочками. Как лапти.
— О лаптях я как-то не подумал.
Они помолчали.
— Нет.
— Что?
— Но я всё ещё думаю о хрустальной туфельке! — с раздражением сказала она. — Это как если бы я засунула ногу в хрустальную вазу. У нас такая была. В виде лодочки. Называлась конфетница.
— Вообще-то туфелька была не хрустальная. Там ошибка перевода. Она беличья. Из беличьей кожи.
— Из беличьей кож-жи-и?!
— Ну, может, из другой кожи, но отделка из беличьей шкурки. Поэтому Золушка так легко и танцевала.
— А откуда ты знаешь? Ты что, этот ум… умбл... умблик?
— Умбиликолог? Нет. Но я читал книжки. Там написано.
— Книжки про книжки?
— И книжки про книжки.
— А зачем?
— Ну, если в одном книжке написано непонятно, то в другой объясняется.
— А если и в другой непонятно?
— Тогда в третьей.
— А если и в третьей?
— Тогда в четвёртой. В пятой. И так далее.
— А про первую, что, уже забыли?
— Нет, её помнят. Для этого и есть Умбиликотека.
— Ты там был?
— Да.
— Это там ты узнал про Золушку?
— Можно сказать и так.
— А из которой по счёту книжки?
— Из двести девяносто пятой.
— Их так много?
— Их так много.
— Ну хорошо. Тогда объясни. Почему принц влюбился в ногу?
— В ногу? Это так ты поняла сказку?
— Это ты так рассказывал. Фу-у! Влюбиться в нижнюю ногу. Но он же видел её лицо, глаза, волосы, видел руки, пальчики. Смотри, какие у меня пальчики? Красивые?
— Да.
— А он вдруг влюбился в ногу. Он что, был дурак?
— Мне кажется, он влюбился в щиколотку.
— В щи…
— … ко-ло-тку. Это вот здесь.
— Ой! Щикотно!
— Щекотно.
— Это она? Щи…
— … ко-ло-тка.
— А мне нравится. Красивая. Она у меня ведь тоже красивая?
— Красивая.
— Тогда я начинаю понимать принца.
— Не клади ноги на торпеду. Убери! Убери, я сказал.
— Но я бы всё равно не влюбилась в ногу. Красивая, только низкая. Не то, что пальчики. С ними можно поговорить. На каждом можно нарисовать личико и поговорить. А эта щи… ще… Надо нагибаться. Хотя на пальчиках ног я ещё не рисовала.
— Ещё порисуешь.
— Да?
— На ногтях. Когда будешь краситься.
— На ногтях не получится. На них ручка не пишет. Ты так шутишь?
— Шучу.
— Как смешно. И про Золушку тоже как смешно. Принц бы очень смеялся.
— Может, и не смеялся бы. По щиколотке можно узнать многое.
— О чём?
— О самой женщине, например.
— А что?
— Тебе ещё рано.
— Нет, скажи! Скажи! Ты чего молчишь? Ну скажи…
— Тебе ещё рано.
— Ну скаж-жи-и! Скаж-жи-и! По секретику. По секретику. Ну!
— Хорошо. По щиколотке можно узнать, какая фигура и всё прочее. Что скрывается под одеждой.
— Да-а? А у меня какая фигура?
— Ты ещё ребёнок.
— А если я разденусь?
— А если ты разденешься, я вырою ямку, постелю туда плёнку, налью воды и ты будешь там мыться. С мылом. Пора уже.
— Не хочу.
Они снова долго ехали молча. Потом справа от дороги появился небольшой овражек и в нём тонкий ручеёк. Вода в ручье была красная.
— А её можно пить? — спросила она.
— В принципе, да.
— А мыться?
— Тоже. Но она солоноватая и плохо мылится.
***
«К оружию, граждане!» призывала картинка, висящая на стене над компьютером.
— Вот смотри, — говорил хакер, обращаясь себе за спину, — нашёл интересную систему. После выхода пули происходит полузапирание ствола клапаном, прямо вот здесь, в районе мушки. Газы вырываются вверх, что сводит на нет и подкидывание ствола вверх, а поршень коротким ходом одновременно и отпирает ствол и отталкивает затвор назад. Далее происходит экстракция стреляной гильзы и постановка бойка на боевой взвод. Но что самое интересное, система запатентована, но при этом она никогда не использовалась и всегда считалась курьёзом, вот поэтому я до нее и докопался. К другим схемам оружия вообще не подберёшься.
— Значит, надо самим придумывать, — пробурчал его друг, большой и угрюмый гум, по виду слесарь, поскольку его руки были грязны, грубы и в шрамах. При этом он довольно ловко обтачивал надфилем небольшую фигурную детальку, которую держал на весу и которая, упади на пол, навеки бы сгинула в металлической стружке и мусоре. Но этого не происходило.
Хакер вздохнул и откинулся на спинку стула. Он давно уже не обсуждал и не осуждал очевидного. Через Умбиликотеку проходила далеко не вся информация, которой владели люди. Запрет стоял на любых способах убийства, включая изготовление и использование ядов, газов, взрывчатых веществ; запрет стоял на всех видах порнографии и половых извращениях, запрет стоял на методических материалах по ведению антиправительственной пропаганды и многом-многом другом.
Оружие в стране производилось в гаражах, в мастерских, подпольно и нелегально, оно изобреталось и переизобреталось, часто было корявым и ненадёжным, но иногда доходило до уровня высокого искусства и тогда выставлялось музеях различных войн. Разнотипными образцами была вооружена даже гвардия Его Превосходительства Председателя Правительства. Иногда бойцы ездили в пустыню, где отстреливали некоторое количество патронов и проводили пару-тройку соревнований на меткость. Следом на стрельбище приезжали кустари-одиночки, они собирали гильзы, иногда находили разорванные стволы и покорёженные части пистолетов и револьверов.
Ни один музей не мог удержать войну внутри себя. Она вырывалась.
***
— Господи, он собирается делать порох! — кричала на сына мать, совсем не глядя на сына, а обращаясь только к отцу. — Чего он о себе возомнил, химик!
— Не уверен, что он сможет что-то сделать, — спокойно отвечал отец.
— Да уж сделает! Весь с тебя! — продолжала выкрикивать мать, однако, почувствовав, что перешла какую-то грань, вдруг резко сбавила тон: — Разбойник, — а потом ещё ниже на полтона: — Обормот, — затем вспомнила, что забыла что-то на кухне, и быстренько вышла.
Воспользовавшись открытой дверью, в комнату прошмыгнула дочь и принялась разглядывать вытащенный из-под стола ящик с разорванными пакетами, разнокалиберной химической посудой и рассыпанными по дну веществами.
— Ты делаешь порох, — без вопроса спросил отец. — Из чего? Селитру можно купить в магазине удобрений, уголь взять из печки, но где ты возьмёшь столько серы? Или накупишь спичек, чтобы соскребать с них серные головки? Или начнёшь выколупывать серу из ушей?
— Так вот чем ты занимаешь в ванной, когда чистишь зубы? Ты чистишь уши! — ехидно встряла младшая сестра.
***
В ручье возились две черепахи.
— Переночуем здесь, — сказал он, — а завтра уже станет близко.
— Совсем близко?
— Ближе.
— Совсем ближе или ещё очень далеко?
— Чуть ближе и уже не очень далеко.
Весь день они ехали вдоль ручья, который постепенно становился всё шире и шире. А когда неподвижное зенитное солнце потускнело, остановились на ночёвку.
— Почему они так медленно ползают? — спросила она, наблюдая за черепахами.
Он не знал, что ответить и не хотел отвечать вопросом на вопрос типа: «А куда им спешить?» Ответов здесь было несколько.
— Зато живут долго и счастливо, — шутливо ответил он.
И это была ошибка.
— Как люди? — немедленно спросила она.
— И даже дольше.
— И всё время счастливы?
— Видимо, да.
— Значит, жизнь – это счастье?
— Люди развиваются по-другому.
— Хуже, чем черепахи? Или лучше?
— Лучше.
— А почему лучше?
— Потому что быстрее.
— А почему люди развиваются быстрее, а черепахи медленнее?
— Потому что у черепах реже смена поколений, вот у них и не получается быстро развиваться.
— Им что, не нравится развиваться?
— Они слишком хорошо приспособились к своей жизни.
— А люди не приспособились? Всё еще и не?
— Всё ещё и не.
— И поэтому всё ещё развиваются?
— Поэтому.
— И поэтому живут короче?
— Меньше. У них происходит более быстрая смена поколений.
— Почему?
— Потому что болезни, эпидемии, и ещё они убивают друг друга.
— Ради еды?
— Не всегда.
— А, я это помню. Это когда про войну.
— В том числе.
— А черепахи не ходят на войну?
— Нет.
— А крокодилы? Здесь есть крокодилы?
— Наверное. Но мы до них ещё не доехали.
Она уже засыпала, накрытая одеялом, на заднем сиденье машины, когда вдруг открыла глаза:
— Значит, когда закончатся войны, люди перестанут развиваться?
— Нет, ведь ещё останутся несчастные случаи, болезни, эпидемии…
— А когда закончатся и эпидемии тоже?
Он ещё подыскивал ответ, но она уже спала.
***
Слово «эволюция» не входило в словарь пластических хирургов, но редкий врач отказывал себе в удовольствии эту эволюцию подтолкнуть. В любом виде. Всех своих пациентов они делили на три категории: рукастиков, ногастиков и головастиков. Первые относились к творцам, созидателям, мастерам и тому подобное. Вторые — к артистам, спортсменам и путешественникам и тоже тому подобное. Головастики же считались самым трудным контингентом. Что у них в голове и что именно там нужно изменить, понять было труднее всего.
Новый пациент сам сознавал, что является крепким орешком, хотя его хитиновый череп и не имел никаких признаков ореха. Напротив, череп обладал лёгкой грушевидность. С чисто эстетической точки зрения проблема, казалось бы, легко решаема. Однако пациент предпочёл усложнить дело.
— Боюсь, я вас не обрадую, доктор, — сказал он в первый день. — У меня в голове дыра.
— В каком это смысле? — удивился врач.
— В топологическом. Топологически, моя голова имеет форму бублика. А я бы хотел вернуть её к нормальной форме сферы.
— Тогда вам надо в психлечебницу, батенька, — пробормотал себе под нос доктор, ощупывая голову пациента.
— Я там был, там ничем не могут помочь, — отвечал больной, поправляя на плечах голову, которую врач слегка подвыкрутил, проверяя податливость хрящей шеи.
— Могли бы у себя и оставить, — снова пробормотал себе под нос доктор.
— Как же могли оставить? — услышал больной. — Я ведь не сумасшедший. Я математик. Я просто им доказал, что они ошибались. Дело в том, что все предметы, нас окружающие, имеют лишь две базовые формы: тор и сфера. Бублик и шарик. И между ними стоит как бы невидимая перегородка или, как бы сказать попонятнее, нулевая плоскость пространства. Я эту перегородку убрал.
— Убрали?
— Математически. Теперь вся вселенная типологически однородна.
— Прекрасно. Что же вы от меня хотите?
— Голову.
— Так она у вас есть.
— Нормальную голову.
— Так она у вас нормальная. Если вас выпустили из сумасшедшего дома, значит, она нормальная.
— Вы не понимаете.
— Где уж мне.
— Если сможете предложить мне кофе, я попробую объяснить.
— Может, тогда и сигару?
— Может.
— Может, и коньяк?
— Может.
В итоге, они неплохо посидели. В конце их беседы врач, который был заодно и заведующий клиникой, вполне убедился, что перед ним никакой не сумасшедший и уж тем более не клиент его клиники, однако экземпляр очень ценный. Врач вызвал сестру-хозяйку и приказал ей отвести своего гостя в отделение для гумов и положить в одноместную палату с отдельным выходом на террасу и в больничный сад.
— Как пожелаете, — ядовито ответила сестра, всю жизнь убеждённая, что тратить ресурсы пластической хирургии на мужчин дело в высшей степени бесполезное.
Заведующий клиникой ответил ей строгим взглядом «так и пожелал». Как тайный и убеждённый глазист, он много работал над тем, чтобы некоторые члены его партии покидали клинику совершенно преображёнными. Не только внешне, но и внутренне, даже более внутренне. Момент того требовал. Боевое крыло партии под названием «группа бессмертных» готовило восстание. Грядущий переворот должен был восстановить в стране справедливость — вернуть реальную власть Его Высокопревосходительству Главе Государства и покончить таким образом с многолетним единоличным правлением Его Превосходительства Председателя Правительства.
Новый пациент пришёлся тут как нельзя кстати. Самое главное и самое ценное, что удалось вынести из беседы с ним, звучало так: если в воздушном шарике проколоть одну дырочку, то он не перестанет быть шариком, но если их сделать две, то шарик немедленно станет бубликом. А если планета, как в этом убеждены глазисты, имеет фактически форму глаза, тогда она скорее бублик, чем шар? Для «бессмертных» это многое проясняло.
***
Всю ночь в администрации Его Высокопревосходительства Главы Государства нарастала тревога, переходящая в совершенную панику. Из больницы продолжали поступать прозрачные намёки на то, что больной фактически скончался. Администрация в спешке подготовила проект заявления о лёгком недомогании больного. В полдень планировалось озвучить сообщение, где впервые должно было прозвучать слово «болезнь». К вечеру могли заявить о временном прекращении жизненно важных процессов. План передачи власти уже лежал на столе. Директивы на места спешно готовились к рассылке. Тут-то и обнаружилось, что из частной закрытой школы при монастыре Святой Карамелии пропала его дочь. Пропал и начальник службы детективов департамента охраны Его Высокопревосходительства, находившийся до этого в кратковременном отпуске.
***
В три часа дня Его Превосходительство Председатель Правительства неожиданно выступил по телевизору. То, что он зачитал по телесуфлёру, ещё можно было слушать. Но «папа» решил в этот час добавить и кое-что личное. Жаль, для этого он был слишком чиновник. Он зримо напрягался и толчками выталкивал из себя какие-то совершенно чужие, как будто и не усвоенные им ранее, не переваренные в себе, а лишь когда-то кусками проглоченные слова. Слушать эту отрыжку было тяжело, и всем хотелось, чтобы он поскорей перестал.
***
Женская военизированная организация «Ноттен-Тоттен» состояла из боевых гум, на деле доказавших свою приверженность идеям феминизма и бодипозитивизма. Само название организации недвусмысленно отсылало к земному племени готтентотов, чьи женщины, как известно, обладали впечатляющим задом. И в самом деле, эти военизированные дамы, если брать чисто внешне, вполне могли дать фору любым вставшим на задних лапы муравьям. Их девиз «Никакой пластики, никакой косметики!» всецело поддерживали и их угловатые боевые машины, на которых отряды «Ноттен-Тоттен» передвигались.
Одна из групп поиска выехала на дорогу, ведущую к дамбе водохранилища.
***
— Это что, озеро? — спросила она.
— Запруда. Видишь экскаватор?
— Он перегораживает реку?
— Разгораживает. Эту плотину никто не насыпал. Она появляется сама.
— Сама?
— Земля съеживается, и на её поверхности возникают морщины. Некоторые из них перегораживают реки.
— Земля съеживается, потому что слишком большая?
— Возможно.
— А где все эти морщины?
— Там дальше уже везде. Эта просто первая.
Они уже подъехали к дамбе, на середине которой работал экскаватор. Он длинной многочленной стрелой с ковшом на конце расширял и углублял в плотине дыру, пропуская вниз красную бурлящую воду.
Эту ночь они провели в будке экскаваторщика. Сам он после ужина сказал, что у него ещё есть дела и куда-то ушёл.
— А почему здесь две койки? — спросила она.
— Ты же слышала, у него был напарник, но он недавно умер.
— Я не слышала. Умер, это как? Просто умер и всё?
— Всё так просто.
— И он попал в рай?
— Почему сразу в рай? Впрочем, если он умирал в сознании и был хороший человек, значит, с ним всё стало хорошо.
— А зачем в сознании? Он мог быть просто хорошим, а затем умереть.
— Чтобы видеть хорошие сны.
— Сны?
— Да, видения, образы. Сны.
— А если бы он был плохой, то и сны были бы плохие?
— Да, одни кошмары.
— Кошмар! И тогда бы ему достался ад?
— Снилось бы плохое.
— А если бы умирал не в сознании?
— Тогда ничего. Ничего бы и не увидел.
— Совсем ничего? Ни ада, ни рая? Никуда бы и не попал?
— Никуда.
— Ну тогда это совсем не интересно.
— Что?
— Терять сознание неинтересно.
— Как сказать.
— Что как сказать?
— Иногда человек не волен.
— Чего не волен?
— Пуля в голову, например.
— Ой! Это плохо.
— Плохо.
— А если я буду себя хорошо вести…
— Ты и так себя хорошо ведёшь.
— Да. Но я же сама не знаю, что веду себя хорошо.
— Немного всё-таки знаешь.
— А тот второй, который на экскаваторе, он что-то знал?
— Что он знал?
— Ну не знаю. Если он был в сознании. И если он видел сны…
— В каком-то смысле он и сейчас видит.
— И сейчас? Это как? Сейчас? Почему?
— Потому что сейчас – это свойство время. Время – это и есть «сейчас». Остальное лишь угол зрения.
— Какой угол зрения?
— Это так говорится. Время способно замедляться и даже вообще останавливаться. Для экскаваторщика оно сильно замедлилось и в конце концов превратилось в вечность.
— Но ведь его же похоронили, да?
— Да.
— Выходит, что его вокруг нигде нет?
— Нет.
— А сны есть?
— А сны есть.
— И они тут?
— И тут, и везде.
— А как они выглядят?
— Не знаю. Скажем, как шаровые молнии. Невидимые, неощущаемые шаровые молнии.
— А можно в них заглянуть?
— Думаю, что нет. Но сами они заглянуть могут.
— Куда? В голову?
— В голову.
— Ужас.
— Шутка.
Она всё не засыпала, и он тоже долго не спал. Утром в машине она была вялой и сонной и даже немного подремала, чего не делала никогда. Между тем они уже подъезжали к горам. Земля стала сильно морщинистой, и морщины становились всё выше. Вдали увиделось что-то белое.
— Это снег? — спросила она.
— Это ромашковые поля.
— Ромашковые поля?
— Да, поля вечных белых ромашек.
— А зачем они?
— Ни зачем. Но выше них лавандовые поля, и они сиреневые. Как твои глаза.
— У меня сиреневые глаза?
— Сиреневые.
— А когда я умру, у меня останутся сиреневые глаза?
— Ты не умрёшь.
— Но люди же умирают.
— Но мы же не люди. Люди остались на Земле, там. Мы просто живём их жизнью и поэтому всё, что мы видим вокруг, вслед за ними называем Землёй.
— Значит, это не Земля?
— Если мы называем это Землёй, это Земля и есть. Тут как во сне. Если мы спим и во сне не осознаём, что мы во сне…
— Но ведь жизнь!..
— То же самое. Если что-то пахнет, как жизнь, выглядит, как жизнь, и ощущается, как жизнь, значит, это жизнь и есть. Так что не парься и живи.
— Я вчера долго не могла заснуть.
— Я знаю.
— А эти шаровые… которые шаровые… которые молнии?
— Возможно, вовсе не шаровые и вовсе не молнии, просто сгустки. Может, и не сгустки.
— Но как-то же должны выглядеть!
— Вот здесь ты права. Должны. Потому что нам невозможно представить что-то, ни разу нами не виденное. Всегда приходится с чем-то сравнивать. Вот мы и говорим «выглядят», «выглядят как». А потом на деле окажется, что ничего похожего даже близко.
— Жаль.
— Жаль.
— А тот эскавтр… который второй?
— Да что ж тебе дался этот экскаваторщик! — он впервые слегка повысил голос.
— Ты сказал, что если он видит сны, значит, он ещё жив.
— Я имел в виду, что это без разницы. Те картины, которые он сейчас видит, такая же реальность, как если бы он был жив. И от этого никуда не деться. Если он что-то видит, то он это настолько же сейчас, насколько и вечно.
В горах машину пришлось оставить. Он выгрузил все вещи, рассортировал. В сумке-холодильнике, подключённой к автомобильной сети, сохранился вафельный рожок с шариком мороженого.
— Съешь? — спросил он.
— А можно мы донесём его до мамы? — спросила она.
— Не донесём, — ответил он.
— Тогда я не буду, — сказала она. — Если мама не будет, то и я не буду.
— Хорошо. Давай запомним его таким и оставим здесь.
— Хорошо.
Теперь все вещи он нёс на себе. У неё тоже был маленький рюкзачок.
— Мы уже дошли? — через час спросила она.
— Почти. Но ты же хочешь увидеть ромашковые поля?
— Хочу. И лавандовые тоже.
— Вот и увидишь.
— Ты говорил, я увижу маму.
— Конечно, увидишь.
После лавандовых полей они вступили в хвойный лес. Хвоя была зелёная, стволы коричневые, а под ногами, как белая пена, лежал белый мох, на нём валялись большие раскрывшиеся сосновые шишки. Здесь было прохладно, и он заставил её надеть курточку. К ночи развели полноценный костёр. Сухие ветки громко трещали, жёлтая хвоя сгорала, как порох.
— Если ты был в своей Умбли…
— Умбиликотеке.
— Почему ты не нашёл книгу и не прочитал в ней, как найти правильную пещеру? Прочитал бы, а потом посмотрел по компасу.
— Этого прочитать нельзя. Знания вообще не прямая линия. Нельзя потянуть за кончик и вытянуть всю цепочку. Знания идут дробно, сгустками и разброд.
— Как шаровые молнии?
— Как.
— Знания тоже сны?
— Кто знает. Может, идущие от людей, живших на Земле.
— Но мы всё-таки не люди.
— Ну, если выглядим, как люди, если ведём себя…
— Но мы же даже не выглядим! Не совсем.
— А ты вот выглядишь. И совсем.
— Я?
— Ты.
— А моя мама?
— Твоя мама… тоже.
Утром они нашли пещеру. В ней было холодно, сыро и темно. Он включил фонарь.
— Мы пришли? — спросила она.
— Пришли. Ты умеешь плавать?
— Что-о?!
— Да неважно. Держи меня за руку.
Через узкий боковой коридор они подошли к большой чёрной дыре, внизу которой что-то шумело. Он взял её на руки и туда прыгнул.
***
Подземная река неслась вниз, прыгая с уступа на уступ. В одной из ям под большим водопадом они попали в водоворот, их начало крутить, то выкидывать наверх, но снова затягивать под воду, но он скинул рюкзак и стал держаться за лямку. Рюкзак их вытянул.
Потом они лежали на берегу, на песке небольшого пляжа под жарким солнцем и быстро согревались. Они согрелись даже быстрее, чем окончательно просохли. От обоих клубами шёл пар. На губах чувствовался вкус соли. Вода в реке была довольно прозрачной, но настолько солёной, что даже немного походила на гель. Если бы там вместо соли был сахар, это был бы сироп. По факту, они просто не могли утонуть. Вода их всё время выталкивала.
Песок был тоже необычный. Там, где влажный, он был очень чёрный, маслянистый, жирный, лоснящийся, а где был сухой, оставался красновато-серым. В песке было много мелких камешков, некоторые покрупнее, с картофелину. Белый налёт соли был только на них.
Когда они встали, то увидели, что перед ними находится склон какого-то чёрного пустыря. Это был язык застывшей вулканической магмы, лавовое поле, под ярким обжигающим солнцем похожее на засохшую коросту. Поверхность была изборождена глубокими трещинами.
Ей стало нехорошо. Сильно першило в горле и жгло в уголках губ. В реке она то захлёбывалась, то кричала. Когда не захлёбывалась, то кричала. И наоборот. И с ним она больше не разговаривала. Обиделась и боялась. Когда они встали и он хотел взять её за руку, она не далась. Правда, потом её не спрашивал. Просто хватал за руку и поднимал, как куклу, перенося через канавы и борозды, потом снова опускал.
Их путь лежал вниз, и вскоре им попалась вполне ровный, пусть немного бугристый участок, спускаться по которому было одно удовольствие. Камни там были покрыты причудливой сеткой мелких трещин, и в них уже пробивалось что-то зелёное. Дальше она увидела первую ромашку.
Потом снова появилась река, но теперь она текла не так бурно, а по берегам росли какие-то заросли. Там он выломал для них по две палки, похожих на лыжные. Спускаться с палками было намного проще, но самое главное, под ногами появилась тропинка. По ней явно кто-то ходил, потому что в одном месте находился родник и он был облагорожен. В обрыв была воткнута железная труба с косо срезанным краем, как у иголки шприца, а прямо под трубой выложена из камней чаша.
— Пей, — сказал он и начал доставать из рюкзака полотенца и пакет с гигиеническим принадлежностями.
Всё это время ей не хотелось пить, соль как-то подействовала на неё, и если бы он не сказал «пей», она бы вообще ничего не хотела. Только помыть руки и умыться. Вода была пресной, но в ней всё равно чувствовалась какая-то соль и ещё те такие примеси, которые делают воду жёсткой. Мыло почти не мылилось и под ледяной струёй оставалось просто твёрдым куском. Потом он заставил её и почистить зубы и причесать волосы. Затем достал из рюкзака еду и сказал, что это последняя. Ей поначалу тоже не хотелось есть, но еды оказалось совсем мало, и она не заметила, как съела всю.
— Пошли, — сказал он, и они снова пошли. Она с ним не разговаривала.
***
Это был маленький тихий городок, расположенный на склоне горы, которая уходила далеко ввысь, куда-то за облака, имевшие слабый переливчатый цвет, больше синий с зелёным. Городок выглядел очень странно, он казался полностью вымершим. Во всяком случае, пока они шли, им не встретилось ни одной живой души, хотя улицы и дома имели ухоженный вид, дорожки подметены, цветочные клумбы политы, а окна в домах казались только что помытыми. Окна — это была отдельная песня. Они не блестели, не отражали свет, поскольку солнце, как всегда, находилось в зените, однако их чёрные квадраты, казалось, имели необычайную глубину, как будто это не окна, а многочисленные квадратные глаза каких-то непонятных существ, весьма и весьма удивлённых.
По городу свободно ходили животные, и домашние, и лесные, и все они казались чрезвычайно воспитанными. На каждой второй улице на большом, особо выделенном и довольно живописном пустыре находился общественный туалет, и животные пользовались этим туалетом с большим знанием дела, большие пропускали вперёд маленьких. Даже птицы, существа немного менее развитые, чем млекопитающие, и силу особенностей своего организма не способные сдерживать позывы, вели здесь себя в высшей степени достойно и ни в коем случае не пренебрегали поддержанием общей чистоты и порядка.
В конце самой крайней улицы, самой верхней, находилась станция подвесной дороги. На первый взгляд, фуникулер не работал. В его нижнем стеклянном павильоне, со стеклами тоже удивительной чистоты, спал огромный бурый медведь. Впрочем, он тут же проснулся, поднялся, протёр свои маленькие глазки, застеснялся и вышел. А застеснялся он словно оттого, что спал прямо на полу, а не на стульчиках, поставленных вдоль стены.
Стеклянный павильон теперь просматривался насквозь. Кабинки фуникулёра тоже были прозрачны. Они имели вид стеклянных шаров и покачивались на ветру, радужно поблёскивая на солнце. Все они походили на лёгкие мыльные пузыри, которые будто сдерживали себя, чтобы не полететь всё выше и выше. Количество таких пузырей казалось небольшим, по одному между каждой опорой подвесной дороги, но самих опор было много, а последние были скрыты в облаках.
— Встань вот тут, — сказал он, подводя её к месту посадки. — Стой спиной. Кабина подъедет сама.
Она молча встала. Она всё ещё не хотела разговаривать с ним. Ей даже не хотелось спрашивать, поедет ли он вместе с ней или в следующей кабинке, она просто смотрела вперёд и вверх.
Кабинка подъехала сзади и мягко ударила её чуть ниже колен. Она провалилась в стеклянный шар. Шар плавно покачнулся, доехал до конца платформы, резко провалился вниз, потом выправился и поплыл к следующей опоре.
Она оглянулась. Он стоял на краю платформы и смотрел ей вслед. Она показала ему язык. Он тоже высунул язык. Тогда она свела к переносью глаза и состроила самую противную рожицу, какую только умела. Он тоже попробовал это сделать, но его лицо было более жёстким и лишь немного скривилось. Она засмеялась.