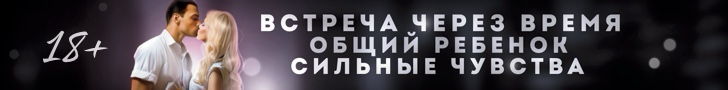Выставка
Часть четвёртая
Гвендолен Рэс-Ареваль (против ее желания) нравилась выставка, и это злило ее невероятно: казалось, что чья-то злая воля повелевает ей, заставляя ходить из зала в зал, внимательно изучать картины, понимать, насколько каждая из них хороша, вздрагивать от осознания внезапно возникшего уважения к Эдварду Аккенро, к этому нелепому искусствоведу Локранцу. Изо всех сил Гвендолен сопротивлялась этой воле, искала в картинах малейшие недостатки, размышляла о бестолковости Локранца, о непроходимой глупости билетера, о тупой самоуверенности Эдварда Аккенро, но если это и помогало, то ненадолго — выйдя из выставочного павильона Гвендолен уже, пожалуй, раскаивалась в том, что оскорбила Локранца. У ворот парка Гвендолен в задумчивости остановилась: до вечера (и, соответственно, до встречи с господином Риттером) было еще далеко, а в гостиницу возвращаться ей не хотелось: сама мысль провести несколько часов в одиночестве в своем номере казалась ей утомительной. Она решила пройтись по магазинам, хотя опасалась, что в этом глупом городе едва ли найдутся хорошие магазины. Но говорили, что на улице Ландсле есть, из чего выбрать…
Наведение порядка не успокоило, скорее еще больше расстроило Мальвину. Она понимала, что своими слабыми попытками как-то иначе расставить статуэтки она не создает из беспорядка подобие гармонии, а наоборот — только усиливает беспорядок: она совершенно не понимала, как должны стоять все эти деревянные и фарфоровые безделушки, чтобы ни одна из них не заслоняла другую, чтобы каждая была одновременно чем-то самостоятельным — и частью общей картины (о чем-то похожем перед открытием выставки рассуждали Эдвард и господин Локранц). Впрочем, у нее оставался еще один способ успокоиться, который обычно действовал безотказно: найти в библиотеке очень-очень спокойную книгу, попросить Анну принести стакан горячего молока с медом, забраться в кресло, укрывшись пледом, — и читать до самого вечера, забыв обо всем. Она поднялась наверх, тихонько проскользнула в библиотеку и принялась медленно просматривать полки с книгами. Полку, отведенную античным философам она пропустила сразу же, как впрочем три другие, отведенные всем прочим философам: их рассуждения казались ей невыносимо скучными; пропустила она и те полки, где стояли драматурги, а также поэты — стихи всегда утомляли Мальвину, казались ей искусственными; внезапно она остановилась, заметив на полке книгу Людвига Тика — «так звали того писателя, чей рассказ читал Герберт», — вспомнила Мальвина. Не сомневаясь, она сняла с полки книгу, открыла на содержании, отыскала новеллу «Белокурый Экберт» — и вышла из библиотеки, аккуратно затворив за собой дверь. Вернувшись в комнату, она вызвала Анну и попросила ее принести горячего молока с медом, после чего Мальвина устроилась в кресле и принялась читать. Когда она добралась до конца страницы, Анна принесла молоко, оставила его на низком столике у кресла и вышла из комнаты. Тревожная, наполненная неясным ожиданием чего-то страшного, способного в одно мгновение разрушить мир, атмосфера новеллы затягивала Мальвину, не позволяя отвлечься даже на глоток молока с медом, которое остывало, теряя свои целительные свойства, или на беспокойные мысли о детях; последние страницы не только не развеяли тревогу, но усилили её: известие, что Экберт по неведению женился на собственной сестре, едва не свело Мальвину с ума. Она захлопнула книгу, в ужасе отшвырнула ее прочь от себя, дрожа, завернулась в плед и несколько мгновений сидела, не шевелясь, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. «Он читал этот рассказ, Герберт читал его!.. Это знак, знак… для него и для меня!.. Он задумает подобное... Он…» — наконец среди неуправляемого ужаса и несвязных мыслей возникло что-то, что показалось Мальвине разумнее прочего: «Я поговорю с Эдвардом. Пусть лучше он посмеется надо мной, чем выгонит меня из дома, когда будет уже поздно что-то изменить». Мальвина заставила себя встать с кресла и поднять книгу, распахнувшуюся на той же новелле, торопливо захлопнула ее — нужно было поскорей вернуть Людвига Тика на отведенную ему и прочим романтикам полку в библиотеке, тогда, может быть, страшный рассказ потеряет свою власть над нею. Руки Мальвины дрожали, а мысли по-прежнему путались от ужаса, когда она ставила на место книгу, которая не успокоила ее, а только сильнее напугала и расстроила.
Чтобы хоть немного успокоиться, Мальвина взяла с полки с прессой журнал за прошлый месяц. Она почти не читала журналы и газеты, потому что не видела в них особого смысла, но Эдвард их выписывал, хотя и сам не всегда читал. Так, этот журнал, казалось, по-прежнему пах типографской краской, а некоторые его листы, плохо разрезанные в типографии, никто до сих пор не разрезал как следует.
— Немного глупостей мне поможет, — пробормотала Мальвина и открыла журнал. На глаза ей попалась рубрика «Из истории нашего города». Название «Скандальное Рождество» показалось Мальвине достаточно глупым, чтобы приняться за чтение.
«Прошло вот уже более ста пятидесяти лет, а эту историю до сих пор не могут забыть в нашем городе! — начал журналист многообещающе. — В те времена, о которых мы с вами поговорим, кружева и кринолин женщин нашего тогда только основанного города могли сравниться разве что с их сияющими глазами, а мужчины были искренни и благородны, так что под их париками не скрывалось ни одной дурной мысли… Верите мне? Не верьте, потому что люди остаются людьми, в кринолинах они, парике или костюме ангела.
Вот вам история о двоих, брате и сестре, по свидетельствам современников, противоестественно влюблённых друг в друга, которые поначалу показались истинными ангелами, а потом…»
Вдруг дверь библиотеки распахнулась (Мальвина вздрогнула), вбежал Герберт.
— Мама! — он удивленно посмотрел на Мальвину, в глазах которой читался неприкрытый ужас, удививший мальчика, — что-то случилось? Ты странно выглядишь.
— Нет, Герберт, — резко ответила Мальвина, — ничего не случилось. Все хорошо.
Она вылетела из библиотеки, оставив сына гадать о том, что же все-таки произошло. Ей не хотелось сейчас говорить с Гербертом, видеть Герберта и даже думать о Герберте, ей это было противно. Мальвину снова трясло, она с отвращением думала о вечернем чае с господином Фарником, чьи нелепые истории обычно веселили ее, но теперь от одной мысли о них, ее начинало тошнить. Внезапно она заметила, что к воротам подошел Эдвард. «Почему не приехал?» — рассеянно подумала Мальвина, но впрочем, это ее ничуть не интересовало. Она медленно спустилась по лестнице, вцепившись в перила: голова кружилась так, что два или три раза Мальвина пропускала ступеньку и едва не падала.
— Мальвина! Что-то случилось? — Эдвард смотрел на жену с тем же выражением, с каким до этого смотрел на нее Герберт. Мальвина отвела глаза:
— Все в порядке, — для серьезного разговора еще не время, решила она, — я немного устала: этот снег, выставка… Ты говорил с господином Фольссенроггом?
— Да, — Эдвард пристально смотрел на жену, — он согласен работать со мной. Ты не больна? Может, отменим Фарника?
— Нет, Эдвард, со мной все в порядке. Просто голова закружилась, — рассеянно пробормотала Мальвина, отворачиваясь от мужа, — я бы все-таки хотела, чтобы он пришёл: Рождество скоро, а ему, наверное, особенно одиноко в эти дни.
Эдвард пожал плечами:
— Хорошо, если тебя не утомит его визит, пусть приходит.
Эдварду казалось, что Габриель Фарник нравится Мальвине, ее же ответ несколько разочаровал его — Мальвина просто жалела их соседа-вдовца, вовсе не испытывая к нему ничего похожего на симпатию. Эдвард посмотрел на высокие напольные часы, стоящие между окнами: было около четырех, за окном начинало темнеть, хотя настоящие сумерки — из-за снега — должны были наступить еще не скоро, ветер все усиливался.
— Мальвина, я пойду к себе, пожалуйста, не беспокой меня до вечера, пока Фарник не придет, и детей предупреди… А! — Эдвард остановился на третьей ступеньке, — совсем забыл: я пригласил сегодня к нам на чай господина Фольссенрогга и Освальда, ты, надеюсь, не возражаешь?
Мальвина удивленно взглянула на мужа. Неожиданное ли его сообщение, или что-то иное было тому причиной, но панический ужас, мутящий ей разум и сжимавший сердце, вдруг отступил и исчез, даже воздух — который прежде было тяжело, почти больно вдыхать — сделался, словно прозрачнее и чище:
— Нет, Эдвард, — голос ее отчего-то дрогнул, — так даже лучше: ты не будешь скучать, ведь Габриель тебя порядком утомляет. Ты спустишься в семь?
— Да, — Эдвард кивнул и ушел к себе в комнату, оставив Мальвину недоумевать: зачем ее муж пригласил к ним таких разных и маловероятно, что интересных ему (во всяком случае, ей так показалось) людей, потому что если с господином Локранцом ещё можно было хоть о чём-то поговорить, то господин Фольссенрогг вдруг представился Мальвине необразованным и очень скучным человеком, которого едва ли можно терпеть в гостях, а тем более — получать удовольствие от его общества.
Гвендолен Рэс-Ареваль не торопясь шла по главной улице города, где располагалось большинство магазинов. С неба время от времени летели снежинки, они кружились на ветру, вспыхивая крошечными звездочками на фоне черных веток, терялись из вида — словно тая в воздухе; начинало темнеть, сумерки незаметно опускались на город, огни рождественских фонарей становились ярче. Полчаса назад Гвендолен зашла в большой магазин готового платья, чьи витрины сверкали в огнях разноцветных фонариков и гирлянд, и купила себе платье — изумрудно-зеленое, украшенное причудливой вышивкой и бисером, теперь она возвращалась в гостиницу, чтобы там переодеться для ужина у господина Риттера. Холодный вечерний воздух дрожал от веселых голосов, звенящих отовсюду, от глухого цокота копыт и скрипа снега, от музыки, льющейся из окон ресторанов; Гвендолен невольно поддавалась этому ожиданию праздника, невольно становилась — хотя бы на несколько дней — частью этого города, пусть не такой важной, как ее предок, но, тем не менее — необходимой частью, и, казалось, что без это невысокой, очень изящной женщины, идущей по главной улице, так гордо подняв голову, город что-то потерял бы, хотя на самом деле, все было наоборот: эта женщина собиралась отнять у города его парк, но для Праздника и для Города сейчас это не имело никакого значения.
Много лет назад гостиница, где поселилась Гвендолен, называлась весьма гордо «Герб Рэс-Аревалей», но после того как фамилия эта потеряла прежнюю популярность, тогдашний владелец гостиницы переименовал ее в «Уютный двор», опасаясь, что если он использует в названии чью-нибудь фамилию, то не исключено, что лет через пятьдесят его сыну или внуку придется снова менять название, а эта процедура была не из легких и быстрых. Нынешний владелец гостиницы, Кристиан Рик, внук того, кто предусмотрительно назвал ее «Уютным двором», еще утром засвидетельствовал свое почтение госпоже Рэс-Ареваль, несколько раз повторив, что если бы обстоятельства складывались менее печально, то гостиница до сих пор бы носила гордое название «Герб Рэс-Аревалей», которое ему, Кристиану Рику, нравится определенно больше глупого «Уютного двора», бывшего всего лишь необходимой данью неблагоприятной политической обстановке.
В гостинице все уже прекрасно знали, что за важная госпожа остановилась у них, а потому весь персонал, оказавшийся в холле, когда двери распахнулись и вошла Гвендолен, принялся почтительнейшим образом приветствовать ее. Гвендолен ответила им сдержанной улыбкой, отказалась от предложения помочь отнести наверх сверток, что она держала в руках, и поднялась к себе в номер: собираться на ужин к Риттерам.
Господин Риттер с семьей жил в большом трехэтажном доме, украшенном цветистым и весьма замысловатым гербом и девизом «Чем больше, тем лучше!». Располагался «Троттервил-хаус» на самой городской окраине. Дом этот построил прапрадед или даже прапрапрадед господина Риттера, господин Альбин Троттервил-Риттер, несколько лет занимавший пост мэра города и прославившийся, как самый плохой мэр за всю историю города. Мэра Троттервила не любили так же сильно, как любили мэра Рэс-Ареваля, считая, что Троттервил выстроил дом на деньги, украденные из городской казны. Были ещё кое-какие события, из-за которых Альбина недолюбливали, но эти события старались забыть.
Внуки злополучного мэра оставили себе вторую часть фамилии, не желая, чтобы первая служила окружающим лишним напоминанием об Альбине Троттервиле; один из пятнадцати правнуков (и семи правнучек) стал президентом Архитектурного Комитета, его уважали, как человека безупречно честного (хотя таковым он не являлся), ответственного (что было правдой), отдающего все силы на труды во благо города (что также не совсем соответствовало истине); кроме господина Якоба Риттера в городе жили еще три правнука и одна правнучка Альбина Троттервила, игравшие менее заметную, но не менее важную роль в жизни города.
Семья господина Якоба Риттера состояла из него самого, его супруги, которую звали Луизой, бывшей на десять лет младше мужа, двоих сыновей-близнецов, Альберта и Клауса, и шестерых дочерей, три из которых родились одновременно, а значит, похожи были как две (вернее, конечно, три) капли воды. Кроме того, в эти предрождественские дни в доме господина Риттера гостили его тетушка по линии матери с супругом и кузина по линии отца, госпожа Риттер-Альгирро с двумя детьми, девочкой и мальчиком. Таким образом, хоть они и отказались от первой части фамилии, но девизу продолжали следовать: тем больше Риттеров, тем лучше.
Сыновья господина Риттера учились в той же школе, что и Герберт Аккенро, и также как он, приезжали в отчий дом только на каникулы, но — что отличало их от сына Эдварда — они оба очень любили пребывание в школе и ненавидели каникулы: вовсе не потому что так уж были склонны к учению, скорее из-за своих непрекращающихся ссор с отцом, которого неизменно расстраивало то, что сыновья — поздние и самые любимые дети — учились спустя рукава и любили школу только потому, что не любили дом.
Три старших дочери господина Риттера давно были замужем, но по настоянию госпожи Луизы Риттер жили со своими мужьями и детьми в доме Троттервила, где места хватало на всех. Младшие дочери — тройняшки — до сих пор не вышли замуж, видимо потому что никак не могли найти себе мужей, которые были бы также неотличимы друг от друга, как они сами, и это, надо сказать, очень беспокоило госпожу Риттер, их мать, которая любила приговаривать, вздыхая, что у нее до сих пор детей больше, чем внуков. Это было действительно так: у старшей дочери господина Риттера был двенадцатилетний сын, у второй дочери — пятнадцатилетняя дочь, у третьей — семилетний сын и пятилетняя дочь, а значит, у госпожи Луизы Риттер было всего четверо внуков и при этом восемь детей.
В тот вечер, когда госпожа Рэс-Ареваль должна была прийти на ужин к Риттерам, хозяин дома вернулся около пяти часов вечера и сразу же сообщил жене о том, какая важная особа явится к ним на ужин.
— Кто?! Якоб, ты не шутишь, а я не ослышалась?! — госпожа Риттер уронила свое вязание. — Родственница Родерика?
— Не просто родственница — прямая наследница, дорогая Луиза, — уточнил господин Риттер, — помнишь, я говорил тебе, что познакомился с ней, когда ездил к морю…
— Да-да, я помню, — перебила мужа Луиза Риттер, — но… во сколько, ты говоришь, она придет? В семь? А уже почти пять, Якоб! О, куда ты смотрел раньше! Почему не предупредил меня! Это же такая гостья!..
И через мгновение, оставив свое вязание лежать на полу, госпожа Риттер вылетела из комнаты. Якоб Риттер слышал, как ее голос разносится по всему дому:
— Девочки! Анна Луиза, Анна Мария, Анна Маргарета, девочки, у нас вечером будут гости! Спускайтесь скорей! Мне нужна ваша помощь!
Господин Риттер пожал плечами и, желая избежать участия в хлопотах, поторопился уйти в свою комнату, где он предполагал написать три письма, касающиеся того дела, которое затеяла Гвендолен Рэс-Ареваль.
Госпожа Риттер и три ее младшие дочери спешно приводили в порядок гостиную, пока старшие были заняты приготовлением дополнительных блюд к ужину: горничная уже три дня, как сбежала с конюхом, и никто не мог даже предположить куда; кухарки в доме Риттеров не было уже почти две недели — прежняя разругалась с тройняшками, которые хором критиковали её ореховый торт, чего кухарка не выдержала и уволилась; объявление о приеме на работу новой горничной и новой кухарки уже было помещено в городскую газету, но перед Рождеством немногих интересовали газеты, а потому пока еще ни одна девушка или пожилая дама не обратилась по объявлению, и госпоже Риттер в эти дни приходилось заниматься не вполне привычным для нее делом: смахивать пыль с каминов, статуэток, книг и подоконников, просить дочерей по очереди мыть пол и убирать за собой и братьями одежду в шкаф. Кроме того, всем женщинам в доме Риттеров пришлось вспоминать свои кулинарные умения и использовать их каждый день, а не только, когда хотелось самостоятельно повозиться на кухне для развлечения. Это было невероятно неудобно, и госпожа Риттер и, особенно, ее дочери ежеминутно принимались ругать сбежавшую горничную и чувствительную кухарку. Отсутствие конюха было гораздо менее заметно: господин Риттер держал одного коня, за которым ухаживали Клаус и Альберт, которые, надо сказать, делали это с большим удовольствием и старанием, чем конюх Ян.
За окном начинало темнеть, свет в комнатах мерк, становясь сероватым, цвета теряли яркость; госпожа Риттер зажгла свечи в гостиной — она не любила газовое освещение, казавшееся слишком ярким. Младшие дочери Луизы Риттер, Анна Луиза, Анна Мария и Анна Маргарета, удалились каждая в свою комнату, чтобы подготовиться к визиту госпожи Рэс-Ареваль; к пяти часам вечера вернулись с прогулки старшая дочь Луизы Риттер, Флорина, с мужем и сыном — они гуляли в парке, побывали на выставке, а потом ели мороженное в маленьком кафетерии недалеко от парка. Ей тотчас же сообщили о том, какая важная гостья ожидается к вечеру, но Флорина, отличавшаяся удивительно спокойным характером, только пожала плечами и заявила, что ее мало беспокоит, какое впечатление она произведет на дальнюю родственницу мэра, о котором давно пора бы уже забыть.
Клаус и Альберт вместе со своей племянницей, а также сыном Полины Риттер-Альгирро (дочь ее была слишком мала для этого) весь день провели в лесу, который начинался почти сразу за домом: они строили снежные крепости и замки, играли в снежки и лазили по деревьям, не следя за временем — и сумерки, особенно ранние в лесу, подкрались совершенно для них незаметно. Только в половину пятого, когда снег из белоснежного стал дымчато-сиреневым, Алиса, племянница близнецов, вдруг заметила, что им давно уж пора возвращаться домой, ведь сам путь через лес занимал около часа.
Веселые и взъерошенные, раскрасневшиеся от холода и смеха, дети вернулись домой. Услышав топот, крики и смех в прихожей, госпожа Риттер бросилась вниз: она прекрасно понимала, какую опасность таит в себе возвращение этих детей, способных своими грязными сапогами так наследить в прихожей, что без горничной у госпожи Риттер не будет никакой возможности привести потом все в порядок.
— Дети, дети, не топчитесь! Быстро разувайтесь! Алиса, прошу тебя, не тряси своей шубой — с нее летит снег!.. Клаус, дорогой… Ах, мальчики, разувайтесь скорей и несите обувь на кухню к печи, чтоб она высохла!
Дети, едва слыша сквозь смех, сквозь радость, вызванную прогулкой и снежками, рассеянно подчинялись ей, но мысли их были далеки от пола и мокрых следов, которые на нем могли оставить их сапоги и ботинки.
— А теперь быстро-быстро все наверх! В детскую — и поторопитесь! Наденьте сухую одежду… Я велю принести вам… то есть, — запнулась госпожа Риттер, вспомнив, что горничной нет, — я принесу вам горячего молока!
Когда дети были, наконец, водворены в общую детскую, пробило шесть часов, и госпожа Риттер, донельзя утомленная дневными хлопотами, ушла к себе в комнату, чтобы переодеться к ужину.
Мальвина Аккенро тоже готовилась к приходу гостей, но ей, в отличие от госпожи Риттер, не нужно было беспокоиться о порядке в доме, о чае и многих мелочах, необходимых для соблюдения каждой гостеприимной хозяйкой, а госпожа Аккенро считала себя гостеприимной хозяйкой, — обо всем могла, к счастью, позаботиться горничная, ей же, Мальвине, нужно было только выбрать самое изящное платье, уложить волосы в красивую прическу и спуститься в гостиную. И теперь она сидела перед зеркалом, рассеянно проводя расческой по своим длинным золотистым волосам и размышляя о том, какая прическа подойдет ей сегодня. Можно было, конечно, просто собрать волосы в узел на затылке, оставив у висков несколько изящно-небрежных завитков, но эта прическа вдруг показалась Мальвине скучной — слишком уж часто она именно так убирала волосы! Можно еще поднять волосы наверх — в тот же узел, но украсив их при этом платком или шарфом, или… Мальвина улыбнулась своему отражению — и эта улыбка совершенно изменила ее: привычное напряженно-испуганное выражение исчезло с ее лица, светлые глаза заблестели, даже жесты вдруг стали другими — не боязливо-неуверенными, а легкими и плавными. Мальвина не торопясь заплела волосы в две косы, а потом с помощью нескольких шпилек подняла переплетенные между собой косы на затылок и украсила их легким золотисто-зеленым платком. Когда она стояла перед высоким напольным зеркалом, внимательно оглядывая свою прическу, в дверь комнаты постучали.
— Да, войдите, — по-прежнему улыбаясь, Мальвина обернулась к двери. Вошел Эдвард. С удивлением взглянув на жену, словно впервые видя ее такой, он несколько мгновений не мог вспомнить, зачем же пришел, пока, наконец, не сказал:
— Совсем забыл, Мальвина: утром тебе пришло письмо от твоей кузины. Похоже, она сейчас в городе. Утром было так много хлопот, что это письмо пролежало у меня в кармане до сих пор, — извиняющимся тоном прибавил Эдвард Аккенро: он не одобрял рассеянность — в первую очередь не одобрял ее в себе.
— Спасибо, Эдвард, — Мальвина взяла протянутый мужем конверт, на котором заметила легко узнаваемые каракули своей кузины Полины, гостившей у Аккенро несколько месяцев назад.
— Ты хорошо выглядишь, — помолчав, сказал Эдвард. — Фарник?
Еще час назад Мальвину оскорбил бы такой вопрос, но сейчас она только улыбнулась и покачала головой:
— Нет, зачем же. Разве я не могу хорошо выглядеть просто так, Эдвард?
— Да, можешь.
Он быстро вышел из комнаты, против обыкновения забыв предупредить, что уже половина седьмого, а значит ей надо бы поторопиться. Мальвина бросила письмо на кровать, решив, что прочтет его после чая. К прическе требовалось платье, не уступающее ей в изяществе: именно на выбор платья, а не на письмо Полины Мальвина потратила оставшиеся полчаса. Когда она спустилась вниз, часы показывали ровно семь, и в гостиной уже сидел господин Фольссенрогг. Заметив ее, он поднялся со своего кресла и слегка поклонился:
— Добрый вечер, госпожа Аккенро, — он так долго называл ее про себя «Мальвиной», что едва не назвал ее так вслух, но вовремя сдержался.
— Добрый вечер, господин Фольссенрогг, — Мальвина заметила легкую заминку между словами «добрый вечер» и своим именем. «Что бы это значило? Мой гость забыл, как меня зовут? Вот уж странно!» — мелькнуло в голове.
— Меня пригласил господин Аккенро, — сначала Мальвине показалось, что он оправдывается, но это было не так: он не оправдывался, а объяснял, — и, боюсь, вы узнали о моем визите всего несколько часов назад. Надеюсь, я не побеспокоил вас?
— Нет, — Мальвина бросила взгляд наверх, в сторону комнаты Эдварда, — мой муж скоро спустится.
— Это замечательно, госпожа Аккенро. Скажите, вы ведь были на выставке, вам понравилось?
Вошла Анна с подносом, на котором стояли чайничек, сахарница, пять чашек и тарелочка с крохотными пирожными. Пока она расставляла все это на низком столике, располагавшемся между диваном, на котором сидела хозяйка дома, и креслом господина Фольссенрогга, Мальвина обдумывала свой ответ, когда же Анна ушла, она тихо сказала:
— Да, мне очень понравилась выставка. Думаю, завтра или послезавтра я еще раз схожу туда одна, чтобы лучше рассмотреть картины. Одну из них написал ваш родственник? — Мальвина налила гостю чай и протянула ему чашку.
— Да, мой племянник автор одной из них. Только это не картина, строго говоря, а рисунок: сангина, мел, уголь — обычные мелки, в общем-то, — господин Фольссенрогг сделал маленький глоток и кивнул, словно чай не обманул его ожиданий.
— Моим детям очень понравился этот рисунок, господин Фольссенрогг, а им редко нравится что-то не стоящее.
Разговор тек неторопливо, со стороны могло показаться, что собеседникам невероятно скучно друг с другом, но это было не так: господин Фольссенрогг слушал Мальвину очень внимательно, будто ловил каждое ее слово, а потом прятал эти слова в специальный отдел памяти, чтобы позже в одиночестве получше их изучить. Мальвина же, интуитивно чувствуя это внимание, с удивлением прислушивалась к ответам господина Фольссенрогга, словно теперь каждое его слово приобрело новый, какой-то особенно важный, оттенок смысла.
— Я заметил, что ваши дети заинтересовались рисунком Фр… гм… моего племянника. И, признаюсь, мне польстило это: все-таки Никке впервые выставлял свою работу, а кто может быть более строгим судьей, чем ребенок, в возрасте ваших детей, не так ли, госпожа Аккенро?
И снова Мальвина заметила легкую запинку перед «госпожой Аккенро». Но если он помнит, как ее зовут, то почему же запинается?
— Да, так, — отвлекаясь от своих мыслей, кивнула Мальвина. Она заметила, что по лестнице спускается ее муж, — Эдвард! Вот и ты, наконец!
— Добрый вечер, господин Аккенро! — господин Фольссенрогг привстал, чтобы поприветствовать директора.
— Добрый вечер, господин Фольссенрогг, — Эдвард Аккенро придвинул второе кресло к столику, словно не хотел садиться на диван рядом с женой, — надеюсь, вы успешно окончили все свои дела?
— Да, конечно, благодарю вас.
Тут вошла горничная и сообщила, что пришел господин Фарник, а через мгновение сам Габриель Фарник появился в гостиной. Ему было около сорока-сорока пяти лет. Среднего роста, довольно полный, с печальными бледно-голубыми глазами, длинным острым носом, маленьким подбородком и взъерошенными, почти полностью поседевшими волосами, он был похож на какую-то нелепую птицу, слишком большую, чтобы летать.
— Добрый вечер, Эдвард, — он поклонился хозяину дома, и, заметив хозяйку, широко улыбнулся ей, — Мальвина, здравствуйте! Вы прекрасно выглядите!
Потом он удивленно уставился на господина Фольссенрогга, словно не понимая, откуда мог тот взяться.
— Это господин Фольссенрогг, Габриель, управляющий ремонтными работами в парке, — сказала Мальвина, — Эдвард пригласил его к нам на чай. Господин Фольссенрогг, это господин Фарник, наш сосед.
— Очень приятно, — еле заметно кивнул господин Фарник. Его лицо мгновенно приняло недовольное выражение, а в глазах появилось разочарование, словно из-за господина Фольссенрогга нарушались все-все его, Габриеля Фарника, планы.
— Мне тоже очень приятно познакомиться с вами, господин Фарник! — господин Фольссенрогг сделал вид, что не заметил, как разочарован Габриель Фарник, — ваш дом расположен слева или справа от дома господина Аккенро? — и прежде, чем господин Фарник успел хоть что-то сказать, господин Фольссенрогг прибавил, — но позвольте, я угадаю. Ваш дом — тот, на котором вместо флюгера висит платок или шарф, верно?
— М-м-м, да, — пробубнил Габриель Фарник, не испытывая никакого удивления от того, что господин Фольссенрогг не ошибся.
— Мне очень нравится ваш дом, — продолжал господин Фольссенрогг, — наверняка, он был построен еще в прошлом веке, так? Удивительно изящная постройка!
— М-м-м, благодарю вас, — продолжал бубнить господин Фарник.
— Когда мои родители только поженились, дед и бабка выбирали для них дом, — вдруг вмешался господин Аккенро, — они хотели купить ваш дом, Габриель, вы, наверное, помните?
— М-м-м…
— Но ваша бабушка отказалась наотрез продавать его, сказав, что этому дому больше ста лет и в нем всегда жили только Фарники. Я отлично помню возмущение моего отца и деда: мои родители мечтали жить именно в вашем доме, Габриель: моя мать была совершенно покорена формой окон, а отец считал, что расположение комнат в нем удобнее, чем в этом.
— Мне тогда было совсем мало лет, чтоб я мог запомнить это, — после минутного размышления ответил господин Фарник, — но дом мой действительно очень хорош, хотя, к сожалению, нуждается в ремонте еще с тех времен, когда была жива моя дорогая Милона.
Господин Фольссенрогг заметил, как лицо Эдварда Аккенро еле заметно перекосилось: ему явно не по душе были воспоминания о Милоне Фарник.
— Вот если бы я снова женился, — продолжил господин Фарник, — тогда да… тогда ремонт был бы необходим.
— Не примите мои слова за неучтивость, — вмешался господин Фольссенрогг, — но ваш дом, господин Аккенро лишь немного уступает дому господина Фарника.
— Отчего же неучтивость, господин Фольссенрогг, — обычная рассеянность исчезла из глаз Эдварда: разговор был очень интересен ему, — если бы вы были преподавателем, то я не назвал бы неучтивостью сообщение о том, что, предположим, мой сын отстает в учении. Так и здесь: вы же архитектор, вы просто сравниваете два дома и говорите, какой из двух, по вашему мнению, лучше.
— Приятно слышать столь разумные слова, господин Аккенро, — кивнул господин Фольссенрогг, — многих бы обидело мое мнение, многим показалось бы, что, сказав «ваш дом хуже», я оскорбляю их лично, говорю «вы хуже» но ведь это не так.
— Нет, не так. Локранц, например, отлично относится к Аррельсу, и терпеть не может… нашего второго выдающегося художника, забыл его имя…
— Дорен Морган, — подсказала Мальвина.
— Да-да, он терпеть не может Моргана. Но в то же время он не любит картины Аррельса, считая их слишком пестрыми, а вот картины Моргана ценит очень высоко.
— А когда, кстати, Освальд придет? Он задерживается, — заметила Мальвина.
— Должен прийти, он обещал, — ответил Эдвард Аккенро тоном, который, казалось, вызвал у господина Фарника бурю возмущения, отразившуюся в его взгляде на Эдварда.
— Господин Освальд Локранц, художественный распорядитель выставки?! — удивленно спросил господин Фольссенрогг.
— Да, он самый, — подтвердил Эдвард Аккенро, — он был очень рад, когда узнал, что вы тоже придете. Он хотел поговорить с вами о картине вашего племянника.
— Надеюсь, — улыбнулся господин Фольссенрогг, — поговорить в положительном смысле? Это первая его картина, которую он решился выставить.
— Исключительно в положительном, — подтвердил господин Аккенро, — не беспокойтесь.
— В таком случае, — глаза господина Фольссенрогга довольно блеснули, — я жду его с нетерпением.
Вошла горничная, а за ней в комнату влетел Освальд Локранц.
— Вам уже не нужно его ждать, — тихо сказал господин Аккенро. После чего он поднялся с кресла, чтобы поприветствовать господина Локранца.
— Освальд, вот и вы!
— Добрый вечер, Эдвард! Добрый вечер, Мальвина! — господин Локранц выглядел по обыкновению встрепанным, но на сей раз веселым, а не расстроенным, — о, господин Фольссенрогг и господин Фарник! Очень рад вас видеть!
Поскольку господин Фарник занял место на диване рядом с Мальвиной, а кресел больше не было, господин Локранц, растерянно оглядевшись, заметил, стул с высокой спинкой, придвинул его к столику и сел, с таким выражением на лице, будто в его, Локранца, жизни не было дня лучше.
— У вас отличный чай, Эдвард! — заявил он, сделав несколько больших глотков.
— Да-да, — подхватил господин Фольссенрогг, — замечательный чай, вкуснее я не пробовал. Где вы его берете?
— В чайной лавочке на соседней улице, — ответила Мальвина, после того как Эдвард недоуменно пожал плечами: для него весь чай был совершенно на один вкус, пожалуй, он бы даже черный от зеленого отличил бы только по цвету — и то, если бы заметил, что цвет у них разный.
— Я не знал, что там есть чайная лавочка! — удивленно сказал господин Фольссенрогг, — давно она там?
— Нет, — оживился господин Фарник, — всего несколько месяцев. Ее открыл двоюродный брат моей бедной Милоны…
Он вздохнул и уставился в свою чашку, словно внезапно нахлынувшая скорбь не давала ему продолжить беседу. Господин Фольссенрогг подумал, что Фарнику, пожалуй, было бы приятно, если бы кто-нибудь сейчас спросил его о Милоне, потому он и обратился к Фарнику:
— Ваша супруга была, полагаю, прекрасной женщиной и прекрасной женой?
— Да, безусловно, — почти весело ответил господин Фарник, обрадовавшись, что кому-то интересна его жена, — мы много лет прожили вместе…
— Возьмите пирожное, Габриель, — неожиданно вмешалась Мальвина, — вот эти, с вишенками — очень вкусные. Их Анна покупает в центральной кондитерской.
— В той, где работает Пьер? — уточнил господин Локранц, лицо господина Фарника снова приняло обиженное выражение, но теперь к обиде примешивалось еще и разочарование: он не ожидал, что Мальвина, которая всегда выслушивала его, всегда так близко к сердцу принимала его переживания, перебьет его — еще и таким глупым предложением.
— Да, — Мальвина кивнула, не глядя на Фарника, что его еще больше задело: она беседует о пирожных с этим болтуном Локранцом!
— Он настоящий художник, не так ли? Думаю, если бы он попробовал себя в изобразительном искусстве, то у него обнаружился бы незаурядный талант, вы согласны со мной, Эдвард?
— Да, Освальд, согласен.
— Но вы смеетесь надо мной! — воскликнул Освальд Локранц, заметив веселый блеск в глазах Эдварда Аккенро, — вы опять смеетесь!
— Мне кажется, — господин Фарник решил воспользоваться случаем и отомстить, — я даже уверен в том, господин Локранц, что сравнивать кондитера и художника, по меньшей мере, нелепо, потому я думаю, что вы пошутили, а Эдварда эта шутка насмешила.
— Я вовсе не счел ваши слова шуткой… — попытался оправдаться Эдвард, но было уже поздно: Освальд Локранц сник, а длинный нос Габриеля Фарника стал от радости как будто еще длиннее.
— Господин Аккенро говорил, — обратившись к Локранцу, господин Фольссенрогг нарушил воцарившуюся было обиженную тишину, — что вы хотели поговорить со мной о картине моего родственника?
— Да-да, — оживился Освальд Локранц, — я хотел узнать, продается ли она?
— Кто-то хочет купить ее? — это был очень неожиданный вопрос для господина Фольссенрогга: деньги и рисование находились настолько друг от друга далеко в его представлении, и мысль о том, что кто-то захочет купить «Ангелов» просто не приходила ему в голову — и он (что случалось очень редко) не смог ответить сразу. Локранц, и без того задетый уже словами Фарника, принял молчание за оскорбленный отказ и всполошился:
— Я понимаю, что эта картина очень дорога вашему родственнику… но… не подумайте, что я… что я…
— Освальд, успокойся, — одернул его Эдвард Аккенро, — дай ему подумать, хорошо?
— Да-да, позвольте, я подумаю над вашими словами, — подтвердил господин Фольссенрогг, — ваше предложение очень уж неожиданно.
— Как же неожиданно?! Но ведь картина — едва ли не лучшая на выставке… вы же сами это понимаете, ваш родственник наверняка показывал ее вам в процессе работы… он не думал о возможности продать ее?
— Нет, — покачал головой господин Фольссенрогг, — поверите ли, но мы никогда не говорили с Фран… Фри… Франциском о том, что кто-то может купить картину. Понимаете, господин Локранц, деньги и искусство…
— А! — обрадовался Освальд Локранц, теперь понял! У вас очень далекий от приземленных сфер жизни племянник, так? Он даже не думает о деньгах!.. Это благородно: рисовать ради искусства, а не на продажу!.. Впрочем, я могу понять: я и сам, можно сказать, обладаю парой бесценных сокровищ, которые не продам, даже если буду голодать. Но чем же он зарабатывает на жизнь?
— Боюсь, ничем. Я выделяю ему небольшое содержание.
— Вы, наверное, очень строгий дядя? — спросила Мальвина, — как в романах, да?
Все, кроме господина Фарника, рассмеялись: ему не нравилось то, что центром беседы внезапно стал «болтун» Локранц и «недотепа» Фольссенрогг.
— Я стараюсь, чтоб ему хватало на жизнь и на материалы для рисования, потому едва ли меня можно назвать классическим скупым дядюшкой: они обычно не одобряют пристрастие племянников к рисованию или любому другому виду искусства, госпожа Аккенро.
— У моей несчастной жены, — господин Фарник, поборов обиду, решил поддержать разговор, но говорил он при этом таким унылым голосом, что всем стало скучно от одного только его звука, — также был племянник: страшный бездельник, должен сказать, и тоже понемногу занимался искусством. Кажется, писал роман. Впрочем, может, и стихи, я не помню.
— И что с ним сейчас? — вежливо спросила Мальвина, хотя ей совсем не понравилось то, что уже второй раз Габриель пытается оскорбить одного из ее гостей.
— О, я не знаю, — еще более уныло ответил Габриель, — я разорвал с ним всякую связь после смерти Милоны: стал бы я, по-вашему, дорогая Мальвина, содержать бездельника, который только и знает, что просить деньги на свои глупые идеи, из которых он все равно ни одну не доводит до конца? Или доводит… я не знаю, но идеи у него были преглупые, дорогая Мальвина, поверьте.
— Он живет в нашем городе? — уточнил господин Фольссенрогг.
— Да, если не переехал, — пожал плечами господин Фарник, который совершенно не понимал, чем какой-то племянник его покойной жены интересней самой Милоны.
— А что за бесценные сокровища хранятся у вас, господин Локранц? — обратилась Мальвина к распорядителю выставки, который, казалось, уже подготовил смешное и ироничное замечание, которым собирался сразить Фарника. Всё-таки не стоило быть слишком жестокими с Габриэлем.
— О, — Локранц сделал широкий жест, — не знаю, какими путями, но среди документов моей покойной матери я недавно нашёл карандашные наброски стопятидесятилетней давности, не меньше. На одном изображалось последнее в нашем городе рождественское шествие. Помните, то самое…
Но когда никто не понял, о чём речь, Локранц не стал продолжать, замявшись. О «том самом шествии» в городе старались забыть — и, видимо, с успехом старались — столь же сильно, как и о события, омрачивших правление Альбина Троттервила-Риттера.
— Удивительное, — после секундной паузы продолжил Локранц, — произведение. Все эти люди на рисунке — словно заглядываешь в колодец, где показывают прошлое. И все так выразительны: и девушка, изображающая Деву Марию, и пастухи, и прохожие, которые глазеют на шествие.
— А ангелы? — поинтересовался Габриэль Фарник мстительно.
Локранц воззрился на него и заговорил быстрей под удивлёнными взглядами Мальвины и господина Фольсенрогга, которым оставалось только гадать, почему Локранц так вдруг разволновался.
— А второй рисунок… о, на втором рисунке изображён Троттервил-Риттер, представляете. Я видел его официальные портреты и даже дагерротип, но не сравнить с этим рисунком. Такое выразительное, живое лицо! Просто чудо, что рисунки уцелели, знаете ли. Вот что я называю сокровищами, Мальвина.
Беседа длилась еще около часа, темы постоянно менялись — от выставки и Рождества, о которых говорили господин Фольссенрогг и Эдвард Аккенро, до преимуществ центральной кондитерской, которые с удовольствием обсуждали Мальвина и Освальд Локранц. Господин Фарник время от времени вставлял в разговор унылые реплики, которыми так или иначе пытался задеть то «болтуна», то «недотёпу»: они с каждой минутой, с каждым словом нравились ему все меньше. С «болтуном» выходило проще — всегда легко поддеть того, кто говорит слишком много, а потому выбалтывает лишнее, а вот «недотёпа» словно и не замечал все уколы, что только утомлял господина Фарника.
Отредактировано: 26.02.2017