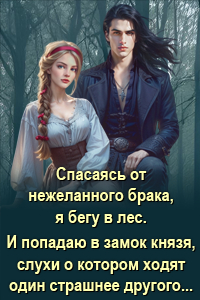Хлеб - всему голова
Хлеб - всему голова
Изображение, созданное и проявленное в подходящем времени и месте, может содержать в себе сильнеший потусторонний заряд. Реальность, время и пространство искажаются вблизи этого артефакта, как если бы человек глядел в оптический прибор. Зависящий от множества физических факторов окружающей среды, прибор может показывать взгляду черноту ненастроенных линз, а может открыть такое, отчего затылок твой покроется сединой, потому что прибор лишь посредник между зыбкой пеленой проявленного и глубинами нервных связей в мозге смотрящего. Таким изображением стал рекламный постер хлебобулочного комбината, в конце прошлого века изготовленный в никому неизвестной частной (сколько их тогда расплодилось, частных предприятий?) типографской фабрике, по заказу завода. Постер содержал в себе несколько наименований хлебобулочных изделий, с фотографиями. Тираж насчитывал множество экземпляров. Но СИЛА решила проявить себя только через этот - так совпал состав краски, наложение её принтером, настроение и самочувствие дизайнера, так упал луч света сквозь космические бездны летя от звезд и Солнца, в окно конторы, смешавшись там с чужими ему фотонами люминесцентных ламп, в плафонах которых нашли смерть множество мух и мотыльков. Так вели себя воздушные потоки в мастерской. Так кашлянул вахтер. Так скрипнула входная дверь, впустив сквозняк. СИЛА проявила себя тогда, когда на людный проспект, в нелепый и скудный на ассортимент хлебный магазин "НИВА" завезли этот постер, когда его прикрепили к стене. Серая мостовая проспекта была покрыта снегом. Ледяные надолбы и грязные сугробы у дороги вырастали быстрее, чем их успевали убрать с тротуара, а вонь выхлопа грузовика, привозившего батоны и буханки, смешивалась с запахом свежеиспеченного хлеба. Пахло теплом. Ребёнок, зайдя в магазин, сначала запоминал тот товар, что хотел купить, а потом шел к кассе. Давясь сухим пирожным под названием "школьное", которое вызывало ассоциации с таким же сдавленно-сухим, унылым и холодным процессом школьной каторги, Ребёнок взглянул на прикрепленный к стене плакат. Под ногти грязных рук забилось немного крошек, а ладони стали липкими от глазури. На плакате было изображено множество как бы раскиданных по площади листа хлебобулочных изделий. Сквозь "ромашки" и "кулебяки" НАШЕГО ЗАВОДА пробивался ФОН, на котором вся эта несущественная коммерческая суета переставала существовать. Фоном была фотография Мельницы. Силует её чернел, как мрамор надгробия, на фоне летнего заката. Закат пылал оранжево-жёлтой преисподней где-то посреди таких же чёрных облаков. Чёрная рожь, словно непокорные волосы на голове старика-мертвеца, колыхалась внизу плаката, под мельницей. Ничего не было видно кроме Мельницы, ржи, и пылающего солнца. Где были глаза, уши, сознание, разум автора, когда он редактировал фотографию и совершал свою хулу над физической реальностью и мозгом смотрящего, отправляя её в печать? Мир рухнул. Пирожное "школьное" застряло в горле, остатки его и многочисленные крошки были скомканы в липком полиэтиленовом пакете, второпях засунуты ребёнком в рюкзак. Он сделал пару шагов к выходу из магазина, но ещё раз обернулся, чтобы увидеть и запомнить невероятно меланхоличный, застывший, тихий летний пейзаж с Мельницей. Будто воздух колыхался и струился потоками, был густ и осязаем, словно тепло над раскаленным железом, перед этим плакатом. Словно сверхмассивная Чёрная Дыра, как линза, он сжимал и втягивал в себя свет, направляя взор только к нему - к плакату. Протяни руку, прикоснись, и обнаружишь за ним не твёрдую гладь стены, а космическую бездну. Рожь колыхалась, и Мельница скрипела под напором ветра, который никто не чувствовал, никто не видел. На исходе дня солнце сквозь свинцовые тучи выхватывало оледенелый промозглый проспект своим оранжевым заревом. Оно отражалось в башне на угловом доме, где во время войны была пулеметная точка. Оно омывало багряными отсветами приемную главной районной больницы имени Семашко. Толкнув дверь, ребёнок выскочил из магазина. Позади, на своей шее он ощущал взгляд реальности Мельницы. Придя домой и даже ложась спать, он каждым нейроном своих нервов и каждым эритроцитом своей крови ощущал Реальность Плаката. Мельница скрипела. Рожь колыхалась. Солнце еще нагревало поверхности, светя сквозь переконтрастированные чёрные тучи, над полем, над Мельницей. И с каждой ночью, и с каждым днем, реальность Мельницы все сильнее захватывала Ребёнка. Порой он приходил в магазин и слушал своё сердце. Что скажет ему плакат, какую шахту, скрытую в личности человека, вскроет ещё эта фотография? Почему при каждом просмотре плаката становилось ещё больнее, ещё горше, будто ты потерял во сне любимую игрушку и тщетно пытаешься её найти, одновременно скучая по ней и храня надежду, изо дня в день всё ищешь её по одним и тем же местам, а не находишь? Почему в сердце словно вворачивали какой-то штопор, сладостно и больно вращая его внутри, почему Мельница нашла себе дом в маленьком человеческом существе? Почему больше никто - ни бабки в пальто с облезлыми меховыми воротниками, ни хамоватые, размалёванные безвкусно торгашки и кассирши не замечали Реальность Мельницы и не сняли плакат? Наверное, невидимый инженер, тысячерукий и безликий, руководивший условиями создания Плаката, предназначил его только Ребенку. Ребенок рос. Плакат с Мельницей, эта планета, нет, этот параллельный мир бесконечного поля, вечно заходящего оранжевого солнца посреди черных туч и скрипящей Мельницы, похоронил сам себя в братской могиле воспоминаний. Иногда Мельница являлась во снах. Статичный пейзаж, как театральная гиперреалистичная декорация, тянул к себе неимоверной гравитацией; Мельница все чернела, все приближалась, все смотрела сотней своих кирпичей на сотни его извилин. И взрослый человек просыпался в холодном поту. Мельница исчезала на годы, и могла появиться в любой момент, будто увиденный тобой силуэт умершей бабки в окне проходящего мимо трамвая, на долю секунды могущий сжать твое сердце в ледяной ладони ужаса. Молодой человек шел утром к дому с остановки. Взглянув мельком на окна своей квартиры, зная, что там никого нет - увидал краем глаза какое-то белесое мельтешение за шторами. Улица, и так безлюдная, застыла. Кровь в ушах гудела, как полноводная река, как ветер, как шторм, бешено крутящий спиральную галактику лопастей Мельницы, казалось бы, померкшей в десятилетиях. За спиной скрежетали жернова, шелестела рожь, время свернулось само на себя. В Мельнице жило и билось, гулко стуча, как черное сердце, что то невыразимо древнее, старше самой вселенной. В глазах потемнело, закружилась голова - да сразу и попустило. Стоило раз моргнуть, и белесое мельтешение за шторами исчезло. Это всего лишь отражался сугроб. Переутомление брало свое. В тот день, во время дневного сна, он шел бесконечный полем, под жарким, но печальным оранжевым солнцем, вдыхая равнинный бриз, к Мельнице. Ее лопасти покачивались, тучи тормозили перед ее вершиной, а кровь все гудела, гудела в висках. Потом гул превратился в звон, лопасти Мельницы крутанулись от внезапного порыва ветра, рассеивая вокруг себя бархатную тьму. Гул и звон прекратились, раздробив сердце в жерновах, превратив его в звездную пыль.
Наступила тьма.
Плакат сорвали десятилетия назад, и магазина того уже нет, и тех старух, и тех кассирш. А Мельница, отвоевав себе целое измерение в свернутой реальности, куда нет входа никому, кроме ее носителя, вновь и вновь отдаляется от тебя, сколько бы ты не шел к ней по бесконечному полю, где шелестит рожь и светит оранжевое, уставшее солнце сквозь черные тучи.
#9393 в Мистика/Ужасы
#3991 в Паранормальное
#61517 в Фэнтези
#8678 в Городское фэнтези
Отредактировано: 27.01.2019