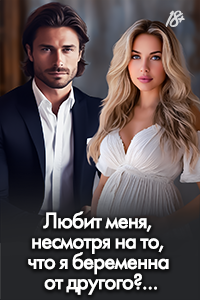Я вернусь
Я вернусь
Вагон трясся, но мягкие сиденья смягчали удары, так что Алиса почти не морщилась. Она держала в руках ридикюль – пальцы побледнели от силы, с которой она его сжимала, – и думала о том, что скажет батюшка, что ответит она сама и чем закончится весь их неприятный разговор. О, она не сомневалась, что разговор будет неприятным.
До конца занятий в школе оставалось еще три месяца, и она не видела причин вызывать ее домой, кроме обручения и замужества. Некоторые из ее подруг вот точно так же внезапно исчезали из-за школьных парт, писали одно-два письма и пропадали навсегда, унесенные вихрем забот и важных дел.
Алиса замуж не хотела. Она хотела закончить школу и поступить в университет, чтобы изучать там древние летописи, посвященные людям, от которых не осталось ничего, кроме пыли на свитках. Ее манило прошлое: его мнимое спокойствие, скрывающее истинную страсть; его неотвратимость; необратимость – и уверенность. Себя она уверенной не чувствовала.
Ее жизнь зависела от воли батюшки: он мог распоряжаться ею до наступления совершеннолетия, которое наступит лишь через год и неделю. Алиса вздохнула и разжала пальцы. Надо лишь продержаться всего один год – принять обручение, усыпить подозрения батюшки, а потом получить матушкино наследство и сбежать в столицу.
Она вгляделась в окно: серые поля, перемежаемые редкими метелками деревьев, сменялись иным пейзажем – за стеклом все чаще мелькали домики и длинные заборы, которые совсем скоро уступят место мрачным складам. Алиса выросла среди этих невзрачных строений – батюшка, удачливый торговец, брал осиротевшую дочь с собой. А потом отправил в школу и вздохнул с облегчением, потому что ему, жесткому, даже жестокому мужчине, приходилось нелегко. Не мог и не умел он общаться с маленькими девочками. С большими, впрочем, тоже, потому и предпочитала Алиса каникулы проводить у школьных подруг, обмениваясь с батюшкой письмами и сердечными приветами.
В купе заглянул проводник, улыбнулся одинокой юной пассажирке и сказал:
— Прибываем через пятнадцать минут, мисс.
Алиса огладила платье, надела шляпку, закрепила ее длинной булавкой и встала. Вещей у нее было немного – лишь один саквояж, ведь большую часть своих пожитков она оставила в школе, все же надеясь вернуться. Она сунула подмышку ридикюль, подхватила саквояж и вышла в коридор.
Что ж, вперед.
*
Скоро. Совсем скоро Альберт почувствует то же, что и он.
От предвкушения в груди теплело, и улыбка сама собой выползала на лицо. Отвыкшие мышцы сопротивлялись, щеки болели, и он со злостью и негодованием сгонял ее прочь. Но через минуту забывался и вновь думал о том, как Альберту понравится мертвая дочь.
Хорошо бы остаться, посмотреть на него. Будет ли он плакать? Рыдать? Возможно, примется колотить кулаками по перрону, проклиная судьбу, бога и мир; а, может, наоборот – застынет без слов, без движения, превратится в камень, которым и является его сердце. Нет, пускай уж его горе будет явным: таким, чтобы каждый видел, как он страдает и мучается.
Скоро.
Он переступил с ноги на ногу, поправил ремень, на котором висела неудобная тяжелая кобура, и еще раз взглянул на карманные часы. Без четверти десять.
Форму он нашел легко: всего-то и требовалось, что подстеречь небрежного полицейского, возвращавшегося из пивнушки. Аккуратный удар по затылку – и подхватить тело, утащить в подворотню, стараясь не испачкать одежду ни уличной грязью, ни кровью.
Брюки, конечно, коротковаты, да и мундир свободно свисает с плеч, но никто не вглядывается в его фигуру, не обращает внимания. Пассажиры и носильщики торопятся по делам, всматриваются в поезда, в номера платформ, ищут взглядом родных и друзей, проверяют билеты, в последний раз обнимают отбывающих, плачут, смеются, хмурятся, беспокоятся, – и никому нет дела до полицейского на перроне.
Его просто обходят, как фонарный столб. Стоит и стоит, никому не мешает и хорошо.
Он еще раз взглянул на часы – десять ровно.
Скоро.
*
Есть хотелось так, что болел живот. Тим почесал зудящую голову – только бы не вши, только бы не эти чертовы насекомые! их же не выведешь, остается лишь обрить голову налысо – и еще раз оглянулся. За ним никто не шел.
Он свернул налево, в темный переулок, откуда разило мочой, и направился к стене, перекрывшей улицу. Там, в глухом тупичке, в тайнике под камнем у него хранилась котомка со свертком приличной одежды – чистая сорочка, пиджак и брюки. Еще бы ботинки где-нибудь раздобыть, и совсем красавчик будет. Прямо-таки настоящий джентльмен из тех, что ходят с тросточками и задранными носами.
Папа его – он помнил, смутно, но помнил, – тоже из таких был. Ну, с тросточкой и в очках, конечно, он же учительствовал. А нос не задирал – никогда! ни разу! Его все любили: и ученики, и соседи, и мама, тоже учительница, и он сам, Тим.
Пиджак натянулся на плечах, затрещал опасно, и он не стал застегивать пуговицы. Пора б уже к новому присмотреться, на рынке он как раз видел неплохой, в лавке у старьевщика. Только же Слепень жадный, за три фартинга не уступит, потребует шесть, а то и все десять. И украсть не получится: хоть и не видит старик правым глазом, а всё замечает.
От таких мыслей настроение испортилось похлеще, чем от голода. Голод что? Беда знакомая, привычная, а вот без костюма ему доверия мало. Слишком он вырос, чтобы затеряться в толпе. И с какого дьявола так расти? Ведь ест не слишком сытно, не слишком часто; добытые деньги уходят то в загребущие лапы Крокодила, то в счет долга.
Тим вздохнул, пригладил пятерней встрепанные длинные волосы и скользнул на улицу. Так, с чего бы начать? Он посмотрел на небо: с севера наползали тяжелые тучи, волокли разбухшие животы по шпилям зданий. Торговли точно не будет – кому ж нравится под дождем торговаться? – так что дорога ему одна.
Он свернул направо и пошел к виднеющейся впереди громаде вокзала, от которой разило дымом, горячим железом, потом и предвкушением. Руки в карманах, разношенные дырявые туфли шлепают о булыжники, вихрь на затылке задорно торчит в сторону.
Ну и пускай он один – голодный, бездомный и наверняка завшивевший, – если ветер в лицо, если он жив, здоров и способен убежать от любого неповоротливого служаки. Жизнь прекрасна.
Тим засвистел веселый мотивчик, который подхватил в пабе у пьяных моряков, и ввинтился в толпу растерянных пассажиров, только-только прибывших в столицу. Тут он чувствовал себя дома больше, чем где-либо еще.
#58098 в Фэнтези
#20961 в Приключенческое фэнтези
#15458 в Молодежная проза
#2270 в Молодежная мистика
Отредактировано: 31.08.2019