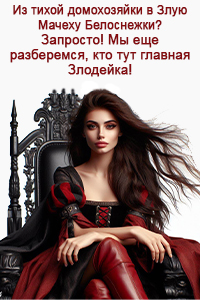Задний двор
Камень, лист, дверь
Мир полон липкости. Мир полон хлипкости. Я стою на крыльце и пускаю хлипкие кольца дыма в неподвижный воздух, полный оранжевого света. Влага липнет к стёклам. Мёртвые листья липнут к земле. Солнце липнет к хлипким тучам, а хлипкие тучи — к липким небесам. Хлипкие люди липнут к осенним мыслям, как мухи к липкой ленте. А мой взгляд липнет к дому на той стороне улицы.
Я расстроен, но расстроен предупредительно.
Раскрытие упёрлось в грохочущую шероховатость и сообщило: нет. Не сегодня. А чего ты, собственно, ожидал? Не хотел сегодня никуда идти. Но ты должен. Лучше бы послушал продолжение истории. Но это последний рейд этого года. Да, последний. Как настоящий маньяк, ты выбрал себе манеру поведения и следуешь ей неукоснительно. Но это определяется всего лишь временами года. Но ведь и сентябрь не настолько холоден. Но ведь дело вовсе не в климате. Но тогда в чём? Но ведь что-то во мне возрождается. Но возрождается в умирании. Но ведь как бы то ни было — придётся. Но почему? Но ведь таково обещание. Но в чём его суть?
В том, чтобы не умереть.
Да.
Час спустя он выходит из дома. Желудок его полон, а жажда утолена. Свежая пачка сигарет уголит карман его брюк, а за пазухой у него, как всегда — марлевая повязка, карандаш и пакетик с солью.
И позади его — Юля и Дженна. И Берке, и Бони. И малолетний дебил, и грёбаный хиппи. И слёзы в подушку, и тупая боль в ребро. И остывающий август. И дождичек в четверг. И Мира, и пять дней творения. И наркотическая зависимость от вечерних встреч. И мокрый отпечаток камня на листе бумаги, лежащем под дверью: Сегодня придти не смогу. Болею.
И впереди у него — хлипкость и липкость. И смена теоретического лета практической зимой. И пятьсот рублей, и семь лет по шестьсот тысяч. И все холодные бри. И Толстяк, и банка сигаретного пепла. И огонь, и вода. И Маяковский. И УМЛ. И старцы, сидящие на планетах. И сон под солнцем. И загорелый, как бомж.
Он выходит на встречу с миром — вольная птица, заблудшая в осеннем сиянии субботнего утра. Мимикрирующий муравей, лишённый забот. Глаза его полны потаённого злорадства, а в груди кусочком лития, брошенного в воду, пузырится гомерический хохот.
Он идёт по земле, по крошащимся бетонным плитам с оттисками советских ботинок. Ступает по здравствующему прошлому, по царству колдырей да колдобин. Снова по плитам, опять по земле. Он огибает машины, усеявшие обочины, и ему хочется разнести их все. Он встречает людей и с трудом может с ними разминуться. Он беззаконно заглядывает в каждое лицо, готовый к любви и убийству.
Он доходит до остановки и вытирает о железную опору вековечную жирную грязь, сдобренную миллионами мокротных плевков. Он дожидается автобуса и садится в него, целеустремлённо не глядя на номер маршрута. Он окружает себя белыми лицами, как осколками яичной скорлупы.
Он едет и везёт своё одиночество миру.
Одиночество — как неделимое число без знака.
#31361 в Проза
#17965 в Современная проза
#5700 в Разное
#5700 в Неформат
Отредактировано: 13.11.2017