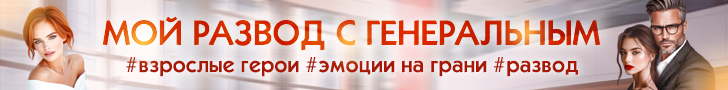Запах угля, вкус крови
Запах угля, вкус крови
Тормозящий поезд в последний раз содрогнулся, лязгнул сцепками и встал. Проводница Таня открыла дверь, и из разбавленной мутным светом фонарей тьмы в тамбур хлынула прохлада. Пробормотав Тане «До свидания!», Шутов спрыгнул на перрон. Замер на секунду, словно проверяя готовность, и только тогда позволил себе выдохнуть тепло спального вагона, пахшее дезодорантом и кофе. А потом глубоко, во все легкие, вдохнул воздух родного города.
Славянка. Все то же – запах угля, вкус угля… Шутов дегустировал его, словно старое вино. Запах угля. И вкус угля - похожий на вкус крови.
За спиной неслышно двинулись вагоны, где-то вдали перекликались мужские голоса, ночной перрон был абсолютно пуст, если не считать уныло бредущей по нему собаки. Шутов потянулся и облизнул пересохшие губы.
Город ещё не знал, что он вернулся.
Он не стал брать такси, если можно так назвать выжидавшие на привокзальной площади потрепанные «жугули» и совсем уж убитый «фолькс». Как раньше, пошел пешком. По пешеходной улочке вдоль железнодорожных путей - к высокому мосту с прогибающимися под его весом досками. Впрочем, они точно так же прогибались и когда Шутов был юным студентом, а не тридцатисемилетним заматеревшим мужиком.
Потом – вдоль бесконечного забора складов, мимо одинаковых двухквартирных коттеджей. И повернуть на Парковую улицу, которая вела к когда-то его дому. К дому, где он родился и вырос, где прошло детство и часть юности, где…
Он остановился и прислушался.
Ночь зудела стрекотанием то ли цикад, то ли мопеда – его заветной детской мечты. Где-то хрипел шансон и слышались вопли пьяной драки. Шутов улыбнулся. Тот, прошлый, он бы от греха обошел бессмысленную потасовку. Но сегодня ему было все равно – он стал другим. И дерущиеся, словно почуяв в темноте опасного зверя, стихли. Только сбивчивый топот в темноте – прочь, пока есть шанс спасти шкуру.
Теперь Славянка принюхивалась к нему, как раньше он – к запаху её угля.
***
Гуцко точно знал, что умирает. Необыкновенная ясность мысли была следствием того, что он уже третий день не пил. Водка закончилась, а встать и дойти до магазина, где всегда найдется компания, готовая налить полстакана, Гуцко не мог.
Что случилось и когда – он не помнил. Пока была водка, кашель и слабость не волновали. Ничто не волновало. Засыпал, просыпался, прокашливался, ощущая шершавую боль под ребрами, и глушил её парой стаканов. Боль уходила - растворялась в хмельной волне, как и весь остальной мир. Ещё маячили рядом какие-то мужики, булькали «родимой», тянули к себе газету с чайной колбасой и крошащимися ломтями ноздреватого хлеба. Потом куда-то делось все – мужики, колбаса, хлеб… И водка. Иссякла водка.
А вместе с ней ушли и силы. Кое-как Гуцко сполз с продавленного дивана и доплелся до ванной с грязным унитазом и капающей из крана ржавой водой. Там пришло окончательное понимание того, что дело хреново. Перед глазами все плыло, ноги не держали. Обратно он добирался на карачках, запинаясь о валяющиеся повсюду пустые бутылки и почему-то валенки. Откуда у него столько валенок? Эта мысль была последней, Гуцко ткнулся лицом в дурно пахнущую наволочку и отключился.
Очнулся абсолютно трезвым и бессильным. Лежал, с ужасом понимая, что до ванной ему уже никогда не добраться, истекал липким потом и мочой, выкашливал легкие в пыльную тишину, уговаривал кого-то помочь. Ответом был лишь крысиный писк.
А когда смерть уже маячила на пороге рваной фигурой, появился Витька Шутов. Гуцко не удивился – кто же, как не Витька должен был явиться ему вместе с костлявой? Смерть и мёртвые – они же всегда рядом ходят…
Небритый, в мятом пиджаке, мёртвый Витька навис над Гуцко. Губы его шевелились, но понять, что он говорит, было невозможно. Гуцко попытался отмахнуться от него, не получилось – тело забилось в очередном приступе кашля и опало.
- Прости... меня... – просипело откуда-то изнутри него. – Прости...
- Ты что?! – заорал Шутов. – Ты что, Серега?! Ты, блин, не умирай, погоди! Я сейчас…
Он шарил по карманам в поисках телефона, потом уговаривал скорую приехать. Врач отказывался госпитализировать – Шутов совал ему деньги: доллары, рубли, евро. Наконец Гуцко перекинули на носилки и погрузили в раздолбанный уазик. Шутов в больницу не поехал, но пообещал попозже проведать и проверить. Врач хмыкнул и прямо сказал, что Гуцко не жилец.
- Ты уж постарайся, пилюлькин, - буркнул Шутов. – Вытащишь - гораздо больше дам. Запомни – гораздо.
Он проводил взглядом удаляющийся по дворовым колдобинам микроавтобус и выругался. Плохо. Со всех сторон плохо. И для дела, и вообще… Нужно было вернуться раньше. Не выжидать и страдать фигней, а просто купить билет на проходящий поезд, шугануть неотступно следующую по пятам команду и ехать. Чтобы разобраться, наконец, что же случилось тогда, пятнадцать лет назад.
Нужно запереть Серегину квартиру. Шутов поднялся по пяти знакомым ступеням и толкнул ободранную дверь. Неужели это – та самая квартира? Криво висящая на вылинявших обоях газетница, давным-давно вышитая Серегиной матерью, подтвердила: та самая. А вот и фотография в дешевой рамке – они с Гуцко и Митрофаном в нелепых спортивных костюмах стоят около забора. И довольно глупо улыбаются. Он тогда накопил денег на свою первую машину...
Шутов закрыл глаза и увидел объятый пламенем старый, но все ещё понтовый «мерс», несущийся в Ржавый яр. Услышал собственный раздирающий грудь крик. И – тишина, нарушаемая только отвратительным треском пожирающего машину и человеческую плоть огня.
Где-то громко запищала крыса. Мягкий удар, еле слышный скрежет и снова писк. Шутов поморщился, сдернул с гвоздя ключ, пнул изъеденный молью валенок и вышел.
Крыса пищала ему вслед отчаянно и безнадежно.
***
Он давно забыл о том, что сделал когда-то. Как чертил, как исписывал формулами листы миллиметровки, как паял схемы. Забыл, откуда и зачем появился высокий рубчатый цилиндр из нержавейки – сердце прибора, название которому он так и не смог придумать.