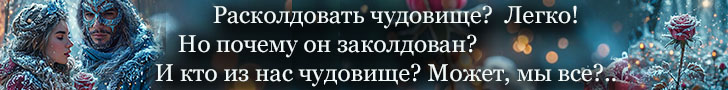Завтра всё будет иначе
Завтра всё будет иначе
Красный в горох чайник только начал закипать, а Лёша уже достал чашки: себе большую тяжёлую кружку, а Оле поменьше. От заварника пахло горечью.
— Оль, тебе бутерброд сделать? — крикнул он в тёплый сумрак коридора.
— Нет, не надо.
Она выступила из тени неслышно, напугав его до острых колючек, впившихся в рёбра. Он потёр грудину, улыбнулся мягко, словно извиняясь, и разлил кипяток по чашкам.
— Знаешь, наверное, сегодня к врачу схожу, — сказал Лёша и поморщился. Больницы и поликлиники – да всё, связанное с медициной! – он недолюбливал.
— Сходи, — согласилась она и развернула газету.
Полотнище бумажное скрыло её лицо, как скрывали до того волосы, книги, экран ноутбука и постоянная вуаль отстранённости, ставшая третьей в их небольшой семье. Лёша вздохнул и сказал:
— Угадай, кого я вчера встретил?
Оля опустила вниз бумажный щит и взглянула на него. Вокруг ясных голубых глаз залегли тёмные тени, следы то ли усталости, то ли чего-то такого неявного, зыбкого, о чём ему и думать не хотелось.
— Кого?
— А ты угадай!
Она пожала плечами, возвращаясь к чтению, но разошедшегося Лёшу этим было не остановить.
— Даю подсказку: ты за ним хвостиком ходила, — ухмыльнулся он. Почему-то воспоминания о той Ольке, беззащитной и даже глупой, потерявшей голову от щенячьей восторженной любви, его смешили. Сначала злили, он даже ревновал, а потом как ножом отрезало.
— Генку? — округлила глаза Оля. Она даже убрала газету, отложив её на подоконник.
— Ага, именно его. Ты б его не узнала – не человек, а ужас.
Лёша припомнил, как в школьном коридоре он стоял у стены, а Генка толкнул его плечом. Нечаянно толкнул, извинился даже, но вот засела занозой в памяти обида от смеха девчоночьего, может даже и Олиного.
— Почему? — спросила она, подавшись вперёд. С лица её словно сдёрнули кисею: на щеках проступил румянец, поджатые губы приоткрылись, глаза заблестели.
Лёша помолчал. Нечасто ему доставалось внимание жены, и момент следовало просмаковать, прочувствовать до последней секунды, сыграть как пьесу – а потом отложить подальше. Туда, где хранятся неприятные мысли, тайные желания и откровения о самом себе.
— Да знаешь, он же был... Ну, ты помнишь, каким он был, не мне рассказывать. А тут просто огрызок – обмылок! – остался. Вот-вот откинется...
Скатерти на столе не было, и лужа расплылась по плетёной салфетке. Оля зашарила руками, не зная, за что хвататься, крикнула сердито:
— Дай тряпку! Сидишь, как дубина!
Лёша вытер столешницу, бросил на пол бумажное полотенце, налил свежего чаю. Оля сидела отвернувшись, смотрела в окно. По весеннему двору, еще пыльно-серому, рассыпались зелёные конфетти хилых кустов, травяных кочек и тщательно пестуемых палисадников.
На лавке у дома напротив уже сидела бабка, кормила из пакета бездомного кота. Точно такой же, если не тот самый кот вчера вился у ног Генки, тёрся ребристыми боками о грязные штанины. Лёша не сказал жене, как зашлось сердце, стоило ему взглянуть в глаза бывшего одноклассника. Генкины глаза напоминали варёные яйца – мутные, серо-жёлтые, затянутые то ли бельмом, то ли плёнкой катаракты, – но взгляд оставался неожиданно острым. По нему только Леша и узнал его. Он был грязен, как бывают грязными бомжи, алкаши и все те, кто давно забил на себя. От смеси запахов мутило. Генка мычал что-то неразборчивое, скрёб чёрными полукружьями ногтей по одежде, заставляя брезгливо отстраняться, чтоб не подхватить от него заразу, не стать отверженным.
Леша сунул ему денег - пара скомканных купюр упала вниз, заинтересовав кота, – и поторопился уйти.
— А где ты его видел? — спросила Оля.
Она была уже в прихожей, застёгивала сапоги. Свесившиеся волосы закрыли лицо, розовый свитер обтянул острые лопатки. Лёша привычно подал ей куртку, принёс сумку и, смотря на её отражение в зеркале, ответил:
— Возле его прежнего дома, у старого детсада. А что?
— Да так, ничего, — она красила губы и смешно шепелявила. — Просто любопытно.
После визита к врачу Лёша отправился домой – всё равно с работы отпросился. Автобус вздохнул тяжело, выпустил на волю невеликую стайку школьников и Лёшу, чувствовавшего себя прогульщиком.
От остановки он пошёл кружным путем, выбирая дорожки покрасивее, любуясь только начавшей победоносную войну природой. Свесившиеся над оградами ветки пахли пряно, остро; клейкие листики так и хотелось размять в пальцах, чтоб почувствовать их жизненную силу.
Лёша сам не заметил, как из-за поворота показался забор старого детсада. Он перехватил покрепче портфель вспотевшей ладонью, нахмурился и зашагал быстрее. Некстати вспомнилось, как Генка подвывал вслед ему, а он шёл не оглядываясь, торопился, никак не мог избавиться от мерзкого ощущения чужих пальцев на себе. И теперь он оглянулся: нет ли кого позади? Никого. От облегчения даже задышалось легче, и Лёша решил больше не отвлекаться и идти домой прямо, не сворачивая.
Только вот плавный изгиб знакомого крыла заставил его притормозить, а потом и остановиться. Сам Лёша водить не умел, в моделях авто не разбирался, но родной "жучок" – так с гордостью говорила Оля – узнал сразу. Он постучал в окно пальцем, словно в пустом салоне прятался кто-то невидимый. Обошел капот припаркованной на тротуаре машины. Постоял немного у сломанных ворот, ведущих к пустующему зданию, подумал.
Лёша не хотел идти внутрь. До зубовного скрежета, до дрожи в пальцах желал он пройти мимо, не обратив внимания на Олино авто. Тихий, потаённный голосок шептал, что она сама справится, она же знала, что делает, она ведь сама сюда приехала – сама, сама! Зачем, спрашивается? Решила найти старую любовь, полюбоваться Генкой? Так пускай её.
Он отступил назад, переложил портфель в другую руку. Позванивая мелодично, мимо проехала крохотная девочка на ярко-розовом велосипеде. Лёша развеселился, сам не зная, чего так испугался минуту назад. Теперь ему ясно виделось, что ничего страшного в её любопытстве нет: одно лишь болезненное желание встретиться с прошлым лицом к лицу. Никто не обещал, что лицо это останется привлекательным.
Наверное, она сейчас не может избавиться от цепких рук, подумалось ему со злорадством. Но пора бы и помочь жене. Вдохновлённый собственным благородством, Лёша переступил ржавые ворота, валявшиеся на песке, перепрыгнул лужу, пестревшую радужными разводами, и направился к детсаду. По разрушающимся стенам прыгали нарисованные зайцы, упитанные гигантские пчёлы несли в руках корзинки, обрамляя ощерившиеся зубами-стёклами окна, вились барвинки.
— Оль? — спросил Лёша, стоя на упавшей двери.
В коридоре, виднеющемся слева, что-то упало.
— Оль, это ты?
Нет ответа, только приглушенно стукнуло вдали, звякнуло, словно закрывшаяся створка окна.
Под ногами хрустел песок, нанесённый ветром, изредка шуршали то ли остатки детских поделок, то ли вездесущие обёртки. В коридоре, уставленном шкафчиками и приземистыми лавками, он заметил жену не сразу. Оля сидела между стеной и шкафом с жизнерадостным корабликом на дверце, съёжившись, уронив голову на подтянутые к груди колени.
— Ты чего здесь сидишь? Вставай! — Он потянулся к ней, неудобно склонившись, положил руку на твёрдое плечо, обтянутое мягким свитером.
Она медленно подняла к нему лицо: волосы соскользнули вниз, открыв исцарапанную шею и щёки, запёкшиеся губы, мутные глаза, закрытые непрозрачной плёнкой, в глубине которых угадывался прежний голубой цвет.
— Да что ж с тобой такое? — спросил он, не решаясь признаться в том, что сразу же – ещё там, на улице – почувствовала какая-то древняя часть его. Он догадывался, знал, что вовсе не болезнь и не зависимость превратила Генку в мычащее подобие человека. Лёша гнал прочь мысли, стараясь сосредоточиться на настоящем – на негнущихся Олиных руках, на обмякшем безвольно лице её, – и шептал: — Вставай, вставай, Оля... Сейчас пойдём домой...
— Омой, — повторила она тихо.
— Домой, домой, — обрадовался он.
Непривычно тихая Оля следовала за ним, как ребёнок держась за карман пиджака. Выйдя за ворота, Лёша уткнулся взглядом в "жучок" и поморщился.
— Оля, поедем домой? Или пойдём пешком?
Её руки зашарили по дверце – щёлкнул замок, она села на сиденье, ухватилась за руль. Лёша, помедлив, сел рядом.
— Омой, — повторила Оля и завела мотор.
Домой они добрались быстро: казалось, что заученные навыки ничуть не пострадали, даже зрение Олю не подводило.
— Голодная? Хочешь есть?
— Есь.
После ужина, приготовленного Олей, – она до сих пор механично жевала кашу, – Лёша смотрел на её безразличное лицо и чувствовал, как внутри ослабевает узел, невесть когда связавший его мысли, чувства и подавленные эмоции.
Надо было, наверное, отвезти её в больницу, позвонить её маме, но ему не хотелось нарушать зыбкий покой равновесия чужими людьми, неспособными понять новую прелесть Оли. Молчаливая, послушная – её молчание не несло в себе прежнего равнодушия.
— Придумаем что-нибудь завтра?
Она подняла на него беловатые глаза и, не вынимая изо рта ложку, сказала тихо:
— Авта.