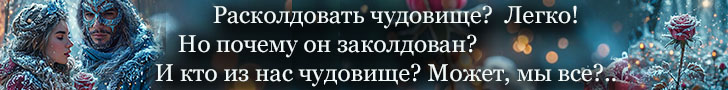Зеркало
Зеркало
Зеркало поймало взгляд с расстояния метров четырех, и больше не отпускало. Сквозь яркую расхристанную воскресную толпу Дима не без усилий продрался к прилавку. Зеркало было большое, сантиметров семьдесят, прямоугольное, в широкой раме. Наверное, подумал он, смотрясь в него, чувствуешь себя старинным поясным портретом. Мутноватое стекло в черных точках, по краям видны серебристые завитки отставшей амальгамы, а вот на раме не было ни грубоватых букетов, ни тяжеловесных рогов изобилия, ни остробородых рогатых головок чертей или глупых круглощеких амуров. С них еще так трудно стирать пыль, а непременные вертикальные трещины на них так беззащитно-неаккуратны… По почерневшему дереву вился потрясающе тонкий, химерический узор, то ли изломанные тела сказочных змеев, то ли письменность несуществовавшего народа.
Барахолка вообще была восхитительная — маленькая, бестолковая и эклектичная, обнаружившаяся в тот самый момент, когда он уже отчаялся найти в городе Амстердаме что-то, кроме борделей, кофешопов и макдональдсов. Два десятка прилавков беспорядочно дислоцировались на берегу канала, вплотную к смешным голландским домам с узкими, наклоненными чуть вперед фасадами и маленькими геральдическими знаками над входной дверью. Европейский шик, мать твою.
Интересного оказалось не так много. Похожие на надгробие настольные часы черного мрамора, увенчанные бронзовым пастушком с флейтой. Выпукло блестящая латунная джезва — крохотная, миллилитров на сто. Хищный заржавленный ключ в локоть длиной. В основном торговали мусором, конечно, вроде россыпи советских марок. Но вот зеркало…
За него попросили семьдесят евро. На секунду Дима задумался, переводя цену в рубли. Совсем они обалдели в этих Европах: за сборник Верлена семидесятого года издания — шелковистая сухая бумага, чернильные пометки — он отдал восемь евро, две чашки кофе, а за это чудо просят всего-то семьдесят. Непонятно правда, зачем оно в съемной однушке, где половина немногочисленной обстановки советская, а половина икеевская, ну да неважно.
Пожалел он о своей импульсивной покупке уже через несколько часов, когда пришлось ругаться в аэропорту из-за хрупкого груза. Попав наконец в салон, он раздраженно швырнул под ноги рюкзак, так, что соседка подняла голову от книжки и посмотрела на него. Хмыкнула и уткнулась обратно. Ну и ладно, тоже мне, нашлась королева.
Верлен был прекрасен, как и всегда. Наверное, поэзия символистов в оригинале — не самый привычный способ убивать время в дороге, но Диму он более чем устраивал. Два с половиной часа пролетели (дурацкий каламбур!) незамеченными и Дима, пребывая в легкой романтической грусти, подцепил рюкзак и выбрался из самолета одним из первых.
На ходу дернул молнию, убрать книжку, и привычный от бесформенного пятна лейбла до обломанной «собачки» рюкзак, третий год таскающийся с хозяином во всех недолгих поездках, неожиданно раскрылся чужим, ненужным содержимым. И в этот же момент насмешливый звонкий голос пропел:
— Excuse me, mister.
За спиной стояла давешняя девчонка с соседнего кресла, щурила зеленые глаза из-под светлой челки.
— You… — она закусила губу, видимо осознавая ограниченность своего словарного запаса, — take my bag.
— Мгимо финишд, — пробормотал Дима. Как оказалось, достаточно громко.
— Аск! — улыбалась она широко, радостно, — рюкзак вернешь, родной?
— Даже кофе угощу, — возвращенные шмотки и, главное, ноутбук, более чем стоили такой благодарности.
— Давай, — легко согласилась она и представилась: — Катя.
Она с двумя одинаковыми рюкзаками и громоздким зеркалом заняла место за столиком в углу безымянной кафешки в аэропорту Вантаа, пока он стоял в очереди и покупал кофе в больших бумажных стаканах и круассаны, совершенно не представляя, о чем же, черт возьми, он будет с этой Катей разговаривать.
Опомнился он часа через четыре, обсудив с ней импрессионистов, Балдуина Прокаженного, виды стаута, сказки Андерсена, колесцовые замки и секс втроем, откровенно вывалив ей едва ли не всю свою биографию и влюбившись по уши. Она была из Питера, такая удача выпадает раз в жизни, она оказалась тоже из Питера, и еще целый день они бродили по Хельсинки, заходя иногда в бары, и ехали в маленьком неудобном автобусе, и стояли несколько часов на таможне — только вдвоем. Любая интересная ему тема интересовала и ее, любая сокровенная мысль находила поддержку и развитие, а когда она встряхивала головой, отбрасывая с лица тонкую прядь волос, он забывал, как дышать. Обнаружилась в ней, узкобедрой и узкогрудой пацанке в тертых джинсах, какая-то невероятная женственность. Чем дальше, тем больше она напоминала ему Мадонн эпохи чинквиченто, как будто окружала вполне заурядные черты лица дымка сфумато. Или просто блуждала по сухим губам леонардовская улыбка, которую никак не удавалось поймать. Как будто она видела уже и этот мир, и тот свет, и познала все его тайны.
Сакраментальной фразы «поехали ко мне» так и не прозвучало, потому что по-другому и быть не могло. Когда она вышла из ванной, босая, в туго обтянувших мокрые ноги джинсах и его футболке, и волосы так беззащитно спадали сзади на тонкую шею, он выбросил из головы всю мистическую ерунду про тайны мироздания.