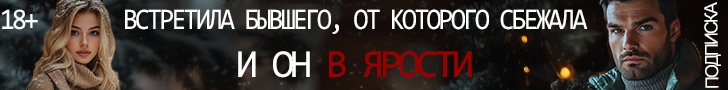Золотой пес
Глава 1. Как ты могла меня забыть?
Глава 1. Как ты могла меня забыть?
Под тесно переплетенными черными корнями этих гигантских деревьев царевна и царевич были похожи на маленьких белых мышат, серьезно — так и было, до невозможности милые, дрожащие и как будто совсем уж маленькие.
Я точно не помнил, сколько длится уже революция и война, но царевич и царевна должны были повзрослеть с тех пор, как я скинул их, полумертвых, из кузова машины. Есть такое мнение, что момент Страшного Суда ныне совсем недалек, и тут уже каждый сам за себя. К счастью у меня в кармане припрятано несколько поступков, которыми я собираюсь оправдаться, оправдать, так сказать, свое существование на этой грешной земле.
Я умру, это будет непременно, и мне скажут: Саша по кличке Шакал, (не обнадеживающе) что ты делал на этой грешной Земле? Я скажу: пил, курил, нюхал, двигал по вене, воровал, обманывал, убивать, к сожалению, тоже случалось, но я этим хотя бы не горжусь.
Хорошо, скажет мне Бог, Саша Шакал, и почему бы мне сразу не отправить тебя вариться в кипящей смоле и дышать раскаленной серой, или какие еще впечатления и удовольствия предусмотрены в местах заключения для ребят вроде тебя.
И я, такой маленький и незначительный, вероятно, блин, даже голый, вдруг подниму указательный палец вверх и, исполненный чувства собственного достоинства, я скажу:
— Однажды я ввязался в бесконечно долгую гражданскую войну чисто по приколу, случайно, ради бабла и друга Гоши, а еще потому, что мой брательник любит убивать людей (но все вопросы к нему). В процессе резни, войны всех со всеми, хорошие люди, желавшие изменить мир, отдали мне приказ застрелить царя и все его большое семейство. И я был в том доме, где на стенах брызги крови и все такое, как будто дикий проективный тест в психушке из фильма ужасов. Я был там и смотрел, как умирают женщины в красивых платьях и юноши в накрахмаленных рубашках. Но лично я стрелял в стену, а не в живых людей. А потом, когда мы погрузили трупы в кузов грузовика, мой ебанутый брат пошел рулить, а я остался сидеть с мертвыми женщинами, и мертвыми юношами, и мертвыми детьми, и настоящим, бля, настоящим, все по серьезу, мертвым царем.
Тут вдруг я услышал слабые стоны. Двое младшеньких детей, двойняшки Кристина и Марк, открытки с которыми так хорошо продавались на почте, были еще живы.
Девчушка открыла свои васильковые глаза и уставилась на нас. Звезды освещали красные пятна на ее платье, такие красивые, будто маки. Она принялась тормошить брата, и тот слабо застонал.
И дальше, призываю не думать, что я конченный мудила, все это сделал за три бриллианта, которые выплюнула царевна, три маленьких блестящих звездочки, три билетика в безбедное будущее, которое так никогда и не наступит.
Это все хуйня, отвечаю — как только я увидел, что девчонка и пацан шевелятся, я сразу подумал: я не смогу их убить. От трех бриллиантов изо рта маленькой царевны я отказываться, конечно, не стал. Но, и это совершеннейшая правда, я пожалел детей. Не намного они были младше меня — года на три, как-то так, но теперь точно не скажешь, ведь я больше не помню, сколько мне тогда было лет. Детишки жалобно смотрели на меня, царевна на ладошки протягивала мне три прекрасных бриллианта, но сердце мое дрогнуло за пару минут до этого. Даже если бы у нее ничего не было — я бы ее пожалел, потому что не такой уж конченный я человек.
В общем, я приложил палец к губам, и они все поняли. Когда мы с моим ебанутым супербратом приехали в лес и принялись рыть яму для красивых женщин, невинных детей и всамделишного царя, я сказал, что сам перетащу все тела. Мой брат сказал:
— Лады.
Он потер лицо грязными от черной земли руками и сказал:
— Устал копать.
Мой брат, он не очень хорошо считает, а все числа, что больше пяти, для него — такая абстракция. В общем, я дал пиздюкам бутылку со спиртом, потому что больше у меня ничего не было, и отпустил их. К тому моменту, как я принес все тела, брат уже спал, привалившись к дереву, и было совсем тихо. Я сбросил в яму женщин, детей, царя, и изрядно охуел, но на сердце у меня было светло и правильно. Во-первых, я стрелял в стену, и, если я кого-то из них убил, то чисто случайно — без злого на то умысла. Во-вторых, царевич и царевна, милые двойняшки, чудом не раненные или раненные совсем легко (за всей этой кровью все равно не различишь) были мною чудесно спасены.
Ну и в кармане, что уж там, лежало у меня три бриллианта. Значит, как в песне, все не так уж плохо на сегодняшний день — без сомнений.
Так что мысли меня одолевали не такие уж мрачные, и свою работу я закончил, когда звезды на небе совсем побледнели, наступило синее, холодное утро.
Ну разве я не чудо, Господи? А теперь немедленно меня прости.
Ладно, шутка, никто никого не простит — все дожившие до этого момента совершенно точно виновны.
Саша по кличке Шакал, стрелявший в стену, отправляется в ад вместе со своим умственно отсталым братишкой Вадиком, стрелявшим в человеческие сердца.
На самом деле, я в Страшный Суд я не очень верю — по-моему, специальный, дополнительный, какой-то особый ад — он не нужен. Есть же эта заебатая планета, этот бесконечный лес, гигантские деревья, озверевшие люди, очеловечившиеся звери, реки теплой крови. Три бриллианта пригодились бы мне раньше: на них я бы свистел разнообразные порошки три года. А маленькие пиздюки, как мне казалось, давно должны быть мертвы, потому что мир — очень уж неприветливое место. В общем, единственное реальное, крутое доброе дело было в жизни, и то проебано в бесконечной темноте мироздания.
Потом-то оказалось, что царь не носил в себе Сердце, связывающее всех нас. И это уже сильно потом я понял, как проебался, потому что царевич или царевна, наверняка, хранили в себе тот самый секрет. Это я со своей псиной жалостью проебался, но ничего не случилось. Никто не воззвал через Сердце ко всему нашему народу, не поставил нас на колени, не заставил каяться. Если Сердце от нас и утекло, то его владелец не мог им воспользоваться в полной мере.
Вот такая история, пожалел двух детей, а из-за этого пропало Сердце России, и теперь в любой момент кто-нибудь может сказать мне: Саша, ну я ведь знаю все, о чем ты думаешь.
Саша, остановись.
Саша, стреляй.
Саша, прыгай на одной ноге, почему нет?
К счастью, ныне вроде бы считалось, что Сердце находилось, на самом деле, у царского брата, а этого ублюдка до сих пор ищут по всей огромной стране.
Вообще-то я думал, что царевича с царевной давно кто-нибудь съел, или же это они едят миндальные круассаны на Монмартре, смотря на белые кости собора Сакре кер, или как бишь там эту громадину называют.
Теперь, когда я их увидел, я сразу убедился, что наш, русский Сакре кер находится в груди у одного из этих милых ангелочков.
С тех самых пор планы начальства на Сердце весьма изменились — теперь уже никто не хотел его уничтожить, чтобы обрести свободу, а все хотели его съесть, чтобы угомонить бессмысленный и беспощадный русский бунт.
Прошло три года, дети выросли, леса разрослись.
Пиздюки, по-моему, не особо понимали, что за корнями их замечательно видно, и корешки эти их разве что художественно обрамляют.
— Эй, малышка, — сказал я. — И малыш. Это я, Саша!
Мой дебиловатый брат опустил винтовку.
Он спросил:
— Мы их знаем?
В таких вещах брат никогда не бывал уверен точно. Он не знал, кто умер, а кто жив, ездил с мертвыми людьми в автобусах и смотрел, как они едят пирожки, а всех знаменитостей принимал за наших случайных знакомых.
Я сказал:
— Ну, конечно. На вокзале с ними тусовались, ты что, не помнишь?
— Нет, — сказал мой брат. — Не помню.
Он улыбнулся.
— Помню, что я кого-то там шесть раз ножом в живот ударил.
— Всякий раз стопорясь о рукоять, — сказал я. — Это не на вокзале было. Но с тобой шутки плохи.
Я старше своего брата на полтора часа. Я лез вперед, такой вот я мудак, очень, видать, мне хотелось посмотреть, что на свете этом есть, и брата моего придушило пуповиной, он родился весь синий.
Выглядим мы совершенно одинаково, но нас редко путают — уж больно мимика разная. Не путали даже в детстве — я быстрый, он медленный, я смешливый, он разве что одарит мир своей загадочной улыбкой, я готов на любой кипиш, что-то занюхать, куда-то подъехать, грустно отъехать, брат синячит и смотрит в стену.
Вадик сказал:
— Я где-то их видел.
Я сказал:
— Да, ну говорю же — вместе тусили мы на вокзале. Там была большая текучка кадров, ты и не помнишь.
— Я не помню, — согласился Вадик и улыбнулся. — Привет, я Вадик.
Царевна и царевич смотрели на нас из-за черных ветвистых корней. Мне хотелось подобрать царевну, как маленького котенка, но я не делал и шагу, только руки протягивал, ладонями вверх. Мой друг Гоша говорил мне, что во всех культурах этот жест означает одно и то же: смотри, я не вооружен и совершенно не опасен.
— Ну-ну, — сказал я. — Бояться нечего. Вы в беде? Так и не смогли выбраться из леса?
И никто не смог.
Вадик сказал:
— А по-моему я их на календарике видел.
— Тебе кажется, — сказал я. — Смотри, они же такие ангелочки, светленькие, синеглазые.
— Да, — сказал Вадик. — Как ангелы. Помнишь, у меня был такой блестящий календарь. Шершавый из-за блесток. Там были ангелы.
— Похожие, да.
— Где-то я видел таких.
В глазах царевны и царевича я увидел презрение, смешанное со страхом. Это было обидно: Вадик не семи пядей во лбу, но это мой Вадик. С другой стороны, он убил всю их любимую семью и даже об этом не помнил — хуйня случается.
Я сказал:
— Я думал, вы давно уехали.
— А как они бы уехали? — спросил Вадик.
— Ну мы же с ними на вокзале тусили, — сказал я. — На поезде бы и уехали.
Вадик кивнул, объяснение ему зашло. Я ведь легко мог бы поймать царевну, но я не двигался, боялся спугнуть девчонку. Наконец, она поднялась, а вслед за ней и ее милый брат. Тут я понял: мы с братом близнецы, а они — двойняшки — ну просто чистая милота посреди темного леса.
Царевна Кристина сказала:
— Лес так разросся. Может, он поглотил уже весь мир.
Я сказал:
— Не проверишь — не узнаешь.
Сколько же ей было? Может, лет девятнадцать-двадцать. Она действительно выросла, ушла детская пухлость щек, оформились сиськи, под глазами появились синяки — признак мучительной жизни и общего нездоровья. Братец ее выглядел большим ребенком, словно остановился в развитии. Они были просто и слишком легко одеты, мелко дрожали от холода. Я заметил, какие они маленькие, и мне вспомнились фотографии царской семьи — взрослые такие статные, высокие. Царевич с царевной, по-видимому, перестали расти.
Я сказал:
— Какие мелкие. Но это ничего — мы с братом тоже, видишь, рапторы, а не тираннозавры. Это хорошо: в маршрутке головой не бьешься, и в поезде ноги можно вытянуть.
Царевна Кристина слабо улыбнулась, царевич Марк выглядел так, словно сейчас расплачется.
Вадик сказал:
— На календаре они были в белом.
— Да, — сказал я. — В белом, как ангелы. С белыми крыльями. Но это не они. Просто похожие.
— Милые, — сказал Вадик и улыбнулся, Кристина дернулась, но я сказал:
— Тише, тише. Я вас не обижу. Я же никогда вас не обижал, а? Может, хуйни я и много наделал, но вас-то конкретно не обижал.
Царевна Кристина взяла за руку царевича Марка. Она как бы ободряла его, мне это было знакомо — и у меня есть брат, с которым мы делили все горести и радости, начиная с материнской утробы.
Кстати говоря, забавный факт, недавно друг мой Гоша, источник знаний обо всем на свете, мне сказал, что раз у нас с братом была общая плацента и общий амниотический пузырь (откуда я это знаю знать никому не надо), то значит разделились мы очень поздно, еще бы пару дней и были бы сиамскими близнецами — вот что значит близкие люди.
И вообще, близнецовые пары типа нас, у которых вообще все общее, погибают что-то типа в шестидесяти процентах случаев: не предусмотрена природой такая близость.
В общем, да, хоть царевна с царевичем были вполовину не так близки, как мы, я представил нас с Вадиком на их месте, как я бы его ободрил, как я бы улыбнулся и сказал бы жутким людям то же самое, что сказала мне сейчас царевна Кристина:
— Спасибо вам. Я не успела этого сказать, никогда не говорила вам.
Ну, может, вышло бы у меня и менее красиво. Мне было забавно, что маленькая царевна говорит со мной, бичом вокзальным, на "вы". Мелочь, а приятно. Есть в революции все-таки какое-то освобождение не только для Гоши есть, а вот и для меня нашлось — свобода, равенство и братство.
Я сказал:
— Это сейчас неважно.
— А, — сказал Вадик. — Она что ли свистела с тобой?
— Нет, — сказал я. — Я ей как-то булочку дал.
— С маком?
— С соком. Вот она и благодарна.
Вадик принялся возиться с ремнем винтовки, а я все стоял с руками, вытянутыми к царевне и царевичу, с открытыми ладонями, на которые словно бы вот-вот упадут звезды, полное небо которых было над нами.
Царевна Кристина вдруг выпалила:
— Мы устали и голодны. Мы были бы благодарны за ночлег. Далее мы вас не обременим. Утром мы уйдем, я клянусь.
Я сказал:
— Я вас провожу до дороги. Она может вывести вас из леса.
— А может и не вывести, — сказала царевна Кристина. — Но мы будем благодарны просто за то, что пустите нас погреться, защититься от ветра.
Вадик сказал:
— Она как Гоша.
— В смысле?
— Она хорошая, — сказал Вадик и улыбнулся. Царевна Кристина дернулась, и я услышал, как молчаливый царевич Марк скрежетнул зубами. Да, мысленно согласился я с ним, это пиздец, братанчик.
Они сделали еще пару шагов ко мне, и они попались. Я улыбнулся и сказал:
— Не парьтесь, оставайтесь сколько надо, отдохните.
— У вас здесь задание? — спросила царевна Кристина.
— Да, — сказал я. — Зачищать лес от врагов революции. Долгое, скучное задание, а лес ведь только растет.
— Как и число врагов революции, — сказал царевич Марк. Голос у него словно бы сломался совсем недавно.
— Есть такое дело, — сказал я. — Но что мы тут поделаем, чувак, если старый порядок не хочет умирать. Никто не хочет умирать, и старый порядок тоже.
Снова царевич поскрежетал синевато-белыми, почти прозрачными зубками.
Вдруг до меня дошло, что он пытается пробраться ко мне в голову. И что у него не получается. Я разом понял, где Сердце — это было большое облегчение: не в груди у девчонки. Я развернулся и двинулся по дороге, Вадик пошел за мной. Я не хотел, чтобы царевна с царевичем думали, что я их неволю. И без того я конченый мудак, одно в жизни дело сделал хорошее, да и то в конце концов засрал.
Царевна нагнала меня. Она сказала:
— Вы же знаете, что мы благодарны. Мы отплатим вам добром, когда придет время.
По-моему, ужасно старомодное выражение. Если время когда-то куда-то придет, то вроде как оно движется, а в последнее время так оно все не выглядит.
Мне захотелось ее успокоить. Я сказал:
— Любите зиму? Катки и елки, и стеклянные игрушки, мандарины, всякая такая фигня.
— Люблю, — сказала она. — Но я не подозревала, что может быть так холодно.
Я ее сразу раскусил — она хотела показаться мне живой, человечной, беззащитной. Женские хитрости одинаковые у барышни и у крестьянки.
Я сказал:
— Мне нравится зима, потому что не видно тел. Хорошо их снегом припорошило.
Мы шли по узкой дороге между рядами черных деревьев. Под моими сапогами то и дело хрустели хрупкие кости мелких животных, а человеческие я отправлял в недолгий полет ударом сапога, как пинал ледышки, когда был маленьким, и Вадик, точно так же, как в детстве, подхватывал мою игру. Царевна Кристина сказала:
— Это же были живые люди.
Царевич Марк продолжал скрежетать зубами. Я подумал: ишь ты. Ну ладно, если сможешь — хуй с тобой, а не сможешь — ты сам себе дурачок.
Вадик сказал:
— Были живые, стали мертвые. Ты такая хорошая.
Он улыбнулся, и я пихнул его в плечо.
— Не смущай ее, она маленькая.
— Да? Мне кажется, нормальная. Брат ее маленький.
Царевна Кристина шла вперед, высоко вскинув голову. Я не мог понять, как им удавалось выживать все это время, да еще и сохранить эту трогательную манеру высоко вскидывать носики-пуговки. Мне было жалко маленьких чувачков и было грустно, что ловушка за ними уже захлопнулась. Мой брат пытался рассказать царевичу Марку какой-то анекдот.
— Хочешь анек? — спрашивал Вадик. Царевич Марк молчал. Он вспоминал Вадика с винтовкой в подвальном помещении, где стены скоро окрасятся кровью.
Жизнь и так-то — полная хуета, а уж если ты бедный маленький царевич посреди темных лесов, полнящихся всякими хищниками и разбойниками — так тем более жизнь у тебя хуета.
Старый порядок не то чтобы не хотел умирать — он вроде бы даже и умер, но на его месте не возникло никакого города-сада, как хотел Гоша, а вырос напитанный кровью лес. Мы шли мимо пробитых стволами деревьев машин, крепко опутанных растительностью домов, пустых окон, похожих на пробитые глаза, погасших вывесок. Кричали ночные птицы, каждый раз их голоса казались мне новыми и незнакомыми. Что-то копошилось позади нас, в снегу, и мы ускорили шаг. Лес — это чудо из чудес, правда?
Царевна Кристина нагнала меня, и я улыбнулся ей. Светленькая блондинка с глазами, как синие цветы — красивая до слез, трахнуть бы ее, подумал я, из классовой ненависти, из желания доказать, что я не хуже, что я ей под стать.
Она заглянула мне в глаза, сказала убежденно:
— Вы — очень хороший человек.
— Ты, — сказал я.
— Ты, — повторила царевна, и поежилась, словно слово казалось ей неудобным, как слишком тесная одежда. Она шепнула:
— Ты подверг себя опасности. И я видела, что ты не стрелял. Ты другой, чем твой брат. Я не забыла.
— Ну да. А ты сидела там, пряталась. Как ты могла меня забыть?
Потом царевна посмотрела на моего брата, взгляд ее потемнел, и снова где-то закричали ночные птицы, теперь их вопли напоминали хохот. Ну охуеть, думал я, обхохочешься просто.
— Там впереди, — сказал царевич Марк. — Целая река крови.
— Не без этого, — сказал я. — Зато смотри, какие звездищи красивенные над головой. Во всем надо искать позитив. А то так и вздернуться недолго.
Вадик сказал:
— Сегодня трех висельников видел. В них жили паразитовые кобры.
— Брат мой — юный натуралист.
— Паразитовые кобры? — спросила царевна Кристина, она поскользнулась, ее исхудалый сапог проехал вперед, и я поймал ее. Сапог был тот же, хотя вся остальная одежда стала проще, дурней.
Сапог, расшитый бисером — белые цветы на черной замше. Она словно бы застеснялась этого сапога, отдернула длинную шерстяную юбку и спросила:
— Так что за кобры?
— Ну, — сказал я. — Не встречались разве? Живут на деревьях, летом любят с них падать тебе на голову. Осенью, если нажрешься пьяный и будешь валяться где ни попадя, заберутся к тебе внутрь и будут греться. Иногда, по ошибке, забираются в висельников, вот, например, и там негодуют.
— Я никогда о таком не слышала, — сказала царевна Кристина. — Ты не придумываешь?
— Чистая правда, вот тебе крест.
— Ты веришь в Бога? — спросила вдруг она очень серьезно. А я засмеялся, люблю смеяться, особенно над тем, над чем не стоило бы.
— Верю в то, что надо вот что-то верить, чтобы не сойти с ума. Гляди, какие звезды красивые. Это перхоть на голове у Бога.
— Тогда Бог — брюнет? — спросил Вадик. — Или у него фиолетовые волосы?
— Это глупо, — сказал царевич Марк. А потом вдруг добавил, больно схватив меня за руку.
— Жизнь — это ад, — сказал он. — Вы видели диптих Ван Эйка "Распятие и Страшный Суд"? Вы видели ад? Видели смерть, распростертую надо всем, хаос из тел, уродливых звероподобных падальщиков, пожирающих грешников. Вы это видели?
Я, ясен хуй, этого не видел. Ван Эйк — это что-то нидерландское, подумал я, а из нидерландского я когда-либо видел только печенья с коноплей, которые привозила моя давным-давно умершая клиентка. Так-то она покупала у меня героин, и вот как-то раз подарила мне печеньки. Потом она умерла.
— Искаженные ублюдки, — говорил царевич Марк. — Неведомые уродцы, которые только и делают, что рвут и пожирают человеческую плоть, в них есть антропоморфные черты, и вместе с ними совершенно дикие, животные. Все демоны ада.
И тут до меня дошло, что пиздюк помешанный. Что ж тут такого удивительного? Я бы тоже ебнулся на его месте. Я ебнулся и на своем месте — только по-другому.
Я сказал:
— Да, мрачная картина.
— Паразиты и падальщики.
— Таких ребят в лесу много, — сказал я. — Значит, Ван Эйк. Это художник такой, я понял.
Вадик сказал:
— Ад это скучно. Лучше бы он ангелов рисовал.
Царевич Марк снова заскрежетал зубами, а царевна Кристина попросила брата:
— Потише.
— Паразиты и падальщики, они уничтожают все живое.
Знал я людей, которые называли нас с братом именно так.
— Вот они, крадутся между деревьев, — сказал царевич Марк, но в густой тьме никого не было видно.
Я сказал:
— Как-то по накурке я смотрел кино про отрезанный клитор и все дела. Там мертвая лиса сказала: хаос правит всем.
Царевич запрокинул голову, посмотрел в небо и громко засмеялся, ночные птицы закричали, словно в ответ на его непроизнесенную шутку — хохот или типа того.
— Закат мироздания, — сказал царевич Марк, отсмеявшись.
— Хрена себе, — сказал Вадик, а я увидел, что от пальцев маленького царевича на запястье у меня остался красный след, но он быстро-быстро стал исчезать, пока не пропал к хуям.
Я сказал:
— Все, я тебя понял, жизнь — депрессивное говно. До меня это дошло даже раньше, чем до тебя. Хочешь понюхаем вместе клей?
Но царевич Марк уже снова замолчал, погрузившись в свое сосредоточенное зубное скрежетание.
Где-то вдалеке было наше убежище от непогоды, от редких гуляющих мертвых и от диких зверей. Хотелось домой, погреться, поесть, посинячить, в конце-то концов, раз повеселее ничего не было. Я чувствовал себя бездомным псом, который бредет куда-то в поисках еды и крова, бестолковый и жалкий. Впрочем, чувство, знакомое мне уже очень-очень долгое время.
Мне было немножко стыдно, немножко гадко, царевич Марк меня немножко пугал. Мой брат шел, погруженный в свой белый шум, царевич и царевна тоже молчали, и ветер завывал у нас в ушах, к ночи он становился все более пронзительным. Вадик почему-то называл его звездным ветром. Наверное, звезды пронзительно светят, и ветер пронзает до костей — по такому принципу.
Вот что я делаю, когда мне непросто: вспоминаю всякие штуки из моей жизни и думаю, какое заебатое кинцо мог бы я снять, сложись оно все для меня как-то по-другому.
Обычно, когда я начинаю все сначала, то потом долго-долго удивляюсь, как оно все со мной случилось. Хотя, на самом деле-то, удивляться нечему.
***
Вообще я агностик, поэтому не знаю, будешь ли ты меня слушать. Я не отрицал, но и не руководствовался. Но давай не будем рубить с плеча, ладно? Господи, пожалуйста, посмотри этот маленький фильм со мной. Буквально короткометражка. Давай назовем ее «Как ты могла забыть меня?». Мне нравятся такие длинные названия, особенно со знаками вопроса в конце.
Вообще это будет комедия. Представь себе, Господи, такие милые малыши, да еще и совершенно одинаковые, и их мама, такая красивая.
Мы с Вадиком родились на окраине Москвы в начале конца предыдущего века — странные были времена. Папка сел за пару месяцев до нашего рождения — по какой-то дико серьезной статье, и уже не в первый раз, короче — сел надолго. Мама правда была невероятно красивая, и это не идеалистичный сыновний взгляд, Господи, да ты и сам ее точно знаешь, ты знаешь ее давно. Она красивая. Мы с Вадиком тоже вышли очень ничего — кукольные, с огромными голубыми глазами, маленькими, вздернутыми носиками — чисто мамины сыновья. Мама, конечно, пользовалась тем, что она была красивая. Мужики ее всегда любили, еще она умела их внимательно слушать. Подвох выяснялся потом, когда оказывалось, что мама не очень умная, и у нее есть уже два очаровательных котеночка, которых она неизменно приводила с собой.
Так-то мы жили в общаге, там у мамы была комнатушка, тесная, темная, в нее проникал запах мерзких щей с кухни, и там все время было сыро, вот что я помню. Мы туда возвращались, потом опять оттуда уходили, потом снова возвращались. Бабка нас видеть не хотела, она огородила шторкой свою часть комнаты, и в нашей остался только продавленный матрац. Мы спали там втроем: мамка прижимала нас с братом к стене и обнимала так, словно хотела защитить от всего на свете. Охуительно было, если честно. Какие-то вот такие мои воспоминания: маленькое белое окошко, неопределенное время года, мамины руки, коленки брата неудобно упираются мне в ребра. Запах щей — невероятный отстой, и эта сырость, как будто под ковром растут грибы. Но было так хорошо, и больше всего мне нравилось именно там — в темном уголке, отгороженном шторкой, с мамкой и с братом в тепле, и перед носом, помню, у меня болтался от сквозняка отслаивающийся кусок серых обоев, за которым открывалась желтовато-белая полоска штукатурки.
Бабка люто орала на маму, но ночью и ранним утром становилось так хорошо и тихо. А мама никогда не орала на бабку в ответ, я вообще не помню, чтобы она хоть раз голос повысила — на все и всегда реагировала со спокойной покорностью, смотрела в пол, улыбалась.
Вадик, когда он милый и виноватый, бывает очень на нее похож. А я, хотя мы с Вадиком абсолютно одинаковые — никогда не бываю так сильно на нее похож, и от этого мне очень печально.
Периодически бабка нас выгоняла, и тогда мама брала нас с Вадиком, и мы шли гулять, а спать возвращались в подъезд, мама стелила нам свою куртку и всякие разные газеты из почтовых ящиков, мы сворачивались в закутке на площадке, чтобы никому не мешать, и спали. Это был варик похуже — вместо щей сладко-тошнотный запах мусора, и далекий писк крыс, сквозь сон он часто превращался для меня в звуки, исходившие от роботов и машин.
Утром мы шли в магазин, и мама покупала нам булочки и сок в маленьких пакетиках, а сама не ела ничего. К вечеру мы возвращались к бабке, и она, нехотя, пускала нас обратно.
Все это время такое обрывочное и случайное, Господи. Я совсем еще маленький.
Сейчас это все кажется мне уже таким далеким, и наша бестолковая мамка тоже. Короче, как-то раз (и это первое мое воспоминание из осознанных, по ходу) мамка пришла купить нам булочки и сок, мы стояли в маленьком магазинчике, украшенном гирляндами с подслеповатыми диодами — к Новому Году. В очереди мужики и бабы ждали водку и колбасу, мама держала нас с братом за руки и рассматривала яркие этикетки консервов. Помню, как на стекле, за которым хранились шоколадки и конфеты, отражались огоньки гирлянды. Мама казалась мечтательной и очень красивой, муторно пахло хлоркой и какими-то сладкими духами. У меня было хорошее настроение — я не особенно понимал, что жизнь у нас какая-то хуевая, и сон в подъезде мало меня смущал, потому что рядом была мама.
И вот очередь тогда казалась мне бесконечно длинной. На самом деле, конечно, обычная была очередь, но когда ты маленький — все большое. Наконец, мы подошли к прилавку, запах сладких духов усилился, я глянул на продавщицу, но в глаза ей смотреть не смог — смотрел на толстые куперозные щеки. Мама покупала булочки и сок, ее руки были такими белыми, синие вены походили на реки, скованные снегом. Мама зевнула, принялась рыться в карманах, и вокруг были какие-то недовольные люди. Потом мама хлопнула себя по карманам и сказала:
— Ой.
Она сказала, что сейчас придет, поцеловала меня в макушку, потом поцеловала Вадика и сказала:
— Вот я их оставлю, потому что я скоро приду. Пусть они поедят.
Я почему-то совсем не испугался, что она уйдет, только мне стало страшно, что люди в очереди будут все на меня ругаться. Толстая продавщица надула куперозные щеки.
— Сейчас-сейчас, — сказала мама и ушла. Мы так и стояли, тут подошел какой-то мужик, стал покупать, кажись, горошек зеленый — ну, к салатику, ясное дело. А мы тупили, стояли, и вдруг чьи-то большие, сильные и мягкие руки подхватили меня и унесли за прилавок, потом рядом со мной появился Вадик. Толстая продавщица сказала:
— Здесь постойте.
Я так ее испугался, но зато мне было интересно посмотреть, а как оно там — за прилавком. Помню стул зеленый, с такой длинной белой полосой показавшегося наполнителя, похожего на сугроб. Стояли счеты, кассовый аппарат, лежала тетрадь, и даже какие-то деньги, но тогда был я так невинен и прост, что у меня и мысли не возникло их своровать. Еще прямо передо мной лежали "Сникерсы" и "Баунти", и всякие другие штуки-дрюки, к ним я тянул руки, но толстая продавщица легонько стучала мягкими пальцами по костяшками моих пальцев.
Так мы стояли, кажется, долго, и я очень ее боялся. Я представлял, что эта толстая лапа может взять меня и закинуть куда-нибудь высоко.
Потом случился, видать, перерыв на обед, и толстая продавщица усадила нас на один стул, такие мы были мелкие пиздюки. Она сказала:
— Какие одинаковые котята.
Тогда я все-таки смог посмотреть ей в глаза. Это оказались добрые, темные глаза, смешные и блестящие, и вдвойне прикольные — на таком пугающем лице. Лицо ее напомнило мне лицо солнца, которое носили на палках в Масленицу, жуткое и одновременно веселое.
Я сказала:
— Меня Саша зовут.
Вадик молчал, и я добавил:
— А это Вадя.
— Хорошо, — сказала она, и ответила, как зовут ее, но я сейчас уже не помню, что она за имя такое назвала. Обычное, простое: Люба, Галя, Люда, что-то примерно такое. В общем, толстая продавщица дала нам целый пакет конфет.
Она говорила, что мама обязательно вернется, но я почему-то не парился. Мне не казалось, что мама никогда не вернется, а вот Вадик сел на измену, поэтому и молчал. Он ел конфеты, одну за одной, потом его стошнило шоколадом, но толстая продавщица почему-то не разозлилась, и Вадик прижался щекой к ее огромному животу.
— Плохо тебе, плохо, — говорила она. — Страшно без мамы.
Помню, она пела старую песню про сердце, которому не хочется покоя, голос у нее был большой, как она, тяжелый. Вадик спросил меня:
— Она певица?
Я пожал плечами, потом кивнул. Мне вдруг показалось, что она певица, толстая певица с телеканала "Культура", который бабка любила смотреть, когда там передавали музыку — что странная фигня, потому что в целом бабка была простая как две копейки: никакого искусства, кроме искусства мозги ебать.
И вот мы сидели в магазине, мелькали над нами огоньки гирлянды, и я мог тронуть их, и тронул, дотянувшись до них рукой. Я никогда не видел гирлянду близко — оказалось, огоньки совсем не горячие. Я так удивился, и я сказал про это Вадику.
Вадик покачал головой.
— Они горячие, — сказал он упрямо.
Люди приходили и спрашивали, неужто мы теткины внуки. Она говорила:
— Дождешься от моей.
— А чьи же?
— А котята какие-то, — говорила она. Мне не нравилось, что я котенок. Мы с Вадиком любили играть в собак. Вечером пришла мама, принесла деньги, маленькими монетками, и продавщица с добрыми глазами и страшными куперозными щеками все качала головой.
А я был рад, огоньки, и мама, и куча конфет в животе, и эта милая тетка то ли продавщица, то ли певица. Все было просто классно — по моим тогдашним меркам. Почему-то (и почему бы?) тетка не хотела отдавать нас маме и все говорила, что кому-нибудь позвонит, а мама, ну, была мамой: стояла и смотрела на нее, молчала, улыбалась. Потом нас все-таки отдали ей обратно, и она принялась нас целовать.
Мы вышли, а там снег пошел. Красивый-красивый, и в свете фонарей цветной, как оранжевые огоньки в гирлянде, как свет в окошках.
Мама сказала:
— Долго я, да?
Колпак у нашей мамки-то подтекал.
Вадик сказал:
— Не.
Я сказал:
— Нам дали много конфет.
— А, — сказала мама. Я протянул ей одну, которую я сохранил и спрятал в рукаве.
— Это тебе, — сказал я, и мама стала шмыгать носом, как будто простыла. В этот момент я вдруг, короче, ясно понял, что она нас оставила у тетки певицы-продавщицы на целый день, не то чтобы забыла, но оставила, и это длилось очень долго.
Я спросил:
— Как ты могла забыть меня?
По-моему, очень длинная вышла фраза для пиздюка моего небольшого возраста, а было нам тогда лет пять. Может, я просто так запомнил, так додумал, но определенно спросил я что-то в этом духе.
Вадик спросил:
— А меня?
И мамка как заплачет. Она говорила, что не могла найти денег и собирала монетки. И плакала, плакала, плакала.
Короче, теперь я понял, Господи, что это не комедия. Ведь мне стало жалко нашу маму, а потом мы пошли спать в подъезд.
#18314 в Проза
#8713 в Современная проза
#17215 в Разное
#2119 в Неформат
роман становления, близнецы, абсурд
18+
Отредактировано: 12.04.2023