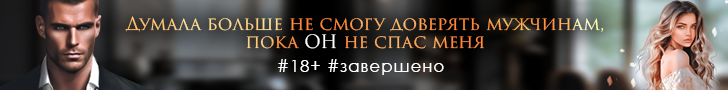Аноним
Пролог
Нет никакого смысла в том, чтобы приходить сюда. В том, чтобы втыкать ключ в замочную скважину и шипеть сквозь зубы от негодования, когда она не попадает в узкую щель. В том, чтобы перешагивать порог и оставлять свет погашенным, закутываясь во тьму пустого коридора. Нет никакого смысла возвращаться в то места, которое Мира не сможет больше назвать домом.
От сдавливающего чувства безнадеги трудно дышать. Принято считать, что тьма сглаживает углы, прячет уродство и недостатки, надежно скрывая их от постороннего взгляда, но Мире пространство кажется враждебным – шипастым и на удивление острым. Стоит протянуть руку, как та непременно наткнется на преграду, будто стены собственной квартиры упорно не желают пропускать ее внутрь. Они сдавливают ее, сжимают, душат плотным цементным массивом, и от ощущения этого становится почти физически невыносимо.
Она здесь теперь чужая, лишняя деталь механизма, который вполне способен работать и без нее. И лучше бы ей просто схватить последние вещи и броситься опрометью за порог, не ждать, когда помещение выдавит ее самостоятельно осаждающим чувством сжимающегося пространства.
— Мира?
Голос стреножит ее у двери, заставляет оцепенело замирать на месте в ожидании неизбежного.
А она-то как дура надеялась, что его здесь не будет, что его под руки сгребет очередная ночная смена и подарит ей бесценный шанс обойтись без длительных диалогов. Она ведь перед ним даже не объяснилась тогда толком, просто ушла, хлопнув дверью напоследок. Мира до сих пор помнит это тупое чувство беспомощности и неподъемной тяжести вины внутри, словно живот до отказа забили тяжелыми булыжниками.
Вот и сейчас, глядя сквозь сизые сумерки в эти глаза, кости в теле наливаются свинцом, а наружу будто бы назло не вылезает ни одного слова в свое оправдание. Потому что на деле слов и нет, как и причин для такого скотского поступка, кроме одной – его личной неприкосновенности. Залога его защищенности от ее проблем.
Мира почти неосознанно тянется к дверной ручке за спиной в намерении в очередной раз сбежать без всяких объяснений, но сил, чтобы надавить на поршень и распахнуть ее отчего-то совсем не остается.
— Не уходи, ладно? Давай просто поговорим.
Он просит. После того, как она с ним обошлась, он до сих просит. Под грудью больно перехватывает невидимый жгут.
— Не о чем тут говорить, — рвется едва слышное в ответ. Почти виноватое.
— Я не знаю, что я сделал, но, прошу тебя, хотя бы дай шанс оправдаться.
Наружу просится задушенный усталый вздох. Мира обреченно прикрывает глаза, туго сдавливая пальцами спасительную ручку.
— Не в тебе беда.
— Тогда в чем?
Беда в ней и в ее полной неспособности контролировать ситуацию. Беда в ее промашках и откровенных проебах, которые привели к такому итогу. Она знает, что, если позволит ему сунуться в это, назад пути уже не будет. Ему в этом мире не место и даже при всех своих навыках и талантах ему в нем не выжить.
Вот, что Фредерико называет слабостью – привязанность. Только правда здесь в том, что слабым она делает не тебя, а тех, кого любишь. Тупая закономерность заключается в твоей полной неспособности защитить дорогих тебе людей. И сколько бы ты из кожи вон не лез, сколько бы не пытался, по итогу страдать не тебе.
Не ты слаб – они.
Было бы мудрым решением прямо сейчас выйти за дверь и не возвращаться, оставить все так, как оно есть. И пусть он поверит в то, что она очередная бессердечная кукла, которая, наигравшись, бросила потрепанную игрушку. Пусть ненавидит и презирает настолько, насколько хватит внутри места для ненависти и презрения. Так будет проще. Но ноги вместо этого как назло рвутся в другом направлении, сквозь длинный тоннель коридора, почти неслышно касаясь холодного кафельного пола.
Губы ищут его вслепую, тычутся в промежутки темноты, касаясь гладких щек и острой линии подбородка, напряженного столба мощной шеи, скул. Такой родной, такой до одурения родной запах забивается в нос, путая мысли, и как-то враз становится на все плевать. На все, кроме рук, которые вместо того, чтобы оттолкнуть ее, прижимают ближе, впиваясь пальцами в мягкий жаккард платья.
— Я так виновата, — шелестит она немыми губами, — я так виновата.
Ричард пахнет травяным чаем, мягкой лавандовой отдушкой стирального порошка и гелем для душа. От дурманящего запаха становится так невыносимо больно, что хочется плакать. Она комкает в руках его футболку, кусая губу, чтобы окончательно не пойти трещинами. Не хватало только дать слабину от дурацкого чувства тоски и ностальгии.
Он целует ее прежде, чем наружу успевает вырваться очередное бестолковое оправдание, которое за всю историю оправданий не срабатывало еще ни разу. Губы у него шершавые и на вкус соленые, стоит только попробовать их языком.
Когда за спиной тихо жужжит молния платья, обнажая спину для теплых рук, внутри по хлопку исчезают причины для того, чтобы просто все это прекратить. Мира не сопротивляется, или не хочет сопротивляться, позволяя ткани мягко соскальзывать с плеч к талии. И даже понимание того, как сильно все это усложнит, не жалит больнее мысли, что больше, возможно, такого момента ей может и не представиться.
Фредерико называет привязанности слабостью. Особенно любовь. Это чувство он вообще считает бесполезным и непригодным для выживания. И, может, он даже прав. Без чувств было бы как-то проще. Но без них было бы как-то совсем не так.
До кровати они не доходят, выдержки хватает на один диван. Кожа старчески скрипит под весом тела, остро реагируя на каждое даже самое незначительное движение. Ком смятого платья остается на ковре, как и вся прочая одежда, как и последние попытки убедить саму себя остановиться.
Она глухо стонет в его ключицу, когда он резко толкается внутрь, заполняя ее без остатка. И отчего-то это кажется таким правильным, таким необходимым сейчас, как глоток свежего воздуха в душной комнате. Не остается и мысли о том, как после встанет неумолимая необходимость уйти и поставить за собой точку.
#14214 в Эротика
#8034 в Романтическая эротика
#42475 в Любовные романы
#14962 в Современный любовный роман
очень откровенно, мафия, брак поневоле
18+
Отредактировано: 29.08.2021