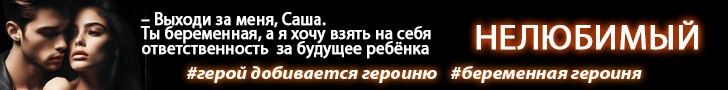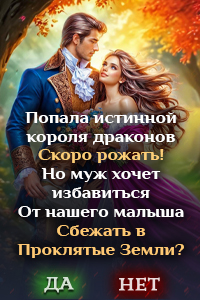Атаманы Из Горбулево
Атаманы Из Горбулево
Вступление
В ноябре 1918-го года север Киевщины поддержал восстание Симона Петлюры. Из этих глухих лесных мест Киевского Полесья на штурм Киева и Житомира выступило несколько тысяч крестьян, объединенных в крупные повстанческие отряды. Наиболее сильным и многочисленным был отряд Радомышльского уезда под командованием братьев Соколовских.
Братья Соколовские происходили из села Горбулево Радомышльского уезда, из многодетной крестьянской семьи, в которой было четыре сына и четыре дочери. Два брата Алексей и Дмитрий учительствовали в школах уезда, и с началом мировой войны ушли на фронт. Вернувшись на родину, они организовали в уезде отряд “Вольного казачества”, который некоторое время находился в армии УНР. Первым отряд возглавил младший сын Соколовских – Алексей (родился в феврале 1900-го года). Алексей Соколовский со своим отрядом участвовал в крестьянском восстании против войск гетмана Скоропадского в штурме Радомышля в ноябре 1918-го года.
В начале 1919-го года Соколовский отошел от Петлюры, начав самостоятельную “карьеру”, исповедуя идею независимости Украины и более “левые” идеалы, нежели Директория Петлюры, но, в то же время, более “правые”, чем большевики. В этом же году в бою против большевиков Алексей погиб, и повстанческий отряд вместо него возглавил его старший брат Дмитрий (родился в ноябре 1894-го года).
В конце февраля 1919-го года Дмитрию Соколовскому удалось на шесть дней выбить большевиков из Радомышля, и провозгласить Радомышльскую повстанческую республику. “Радомышльская повстанческая республика Соколовских” включала в себя уездный центр и несколько местных сел.
В создании этой Республики активное участие принимали: отец братьев Соколовских Тимофей (как начальник штаба повстанцев), священник Степан (четвертый брат Соколовских) и земляки Соколовских братья Кривоносы и Петр Филоненко.
Отряд Соколовских пополнился и стал именоваться “Повстанческой бригадой”. Состав бригады насчитывал до 2000 бойцов при 22-х пулеметах и 2-х пушках.
Действия бригады Соколовского отличались повальными казнями коммунистов в контролируемых селах и местечках. Дмитрий Соколовский стал единоличным атаманом Радомышльских лесов. Его отец, старый Тимофей Соколовский (бывший местный дьяк), возглавил Повстанческую раду севера Киевщины, которая объединила до десятка местных атаманов.
Помимо Радомышльского уезда бригада Соколовского действовала и в Коростеньском уезде.
В Коростеньском уезде удалось занять несколько пунктов и разрушить железную дорогу. Но в 20-х числах апреля 1919-го года бригада была разбита Красной армией
(44-ой киевской дивизией). Остатки бригады Соколовского отошли к северо-востоку от Житомира, сдав занятые им ранее Изяславль и Полонное.
В середине августа 1919-го года Дмитрий Соколовский был убит диверсионным
4
отрядом. Проникнув в село Горбулево, диверсанты обстреляли штаб атамана и забросали его гранатами. Вновь собранный отряд Сокола, потеряв атамана, был тоже разгромлен прибывшим из Киева отрядом красных. Большевики обстреляли из пушек Горбулево во время похорон атамана.
После Дмитрия “Республику Соколовских” возглавил третий брат – Василий Соколовский. Ему удалось снова собрать бригаду повстанцев, с которыми 15-го августа 1919-го года он вошел в Радомышль и вырезал в городе гарнизон и всех представителей советской власти (до 500 человек).
В конце августа 1919-го года повстанческая бригада Василия Соколовского присоединилась к войскам УНР, которые в тот момент штурмовали Киев. Соколовский был принят Симоном Петлюрой и Соколовский признал его власть. А через неделю Василия похитили агенты большевиков, которые вывезли его в Радомышль.
После Василия главой повстанцев стала бывшая гимназистка Александра Соколовская (родилась в декабре 1902-го года), воевавшая под псевдонимом Маруся. Она возглавила отряд в 800 человек, который назвала Повстанческой бригадой имени Дмитрия Соколовского.
В начале октября 1919-го года бригада Маруси была сильно потрепана частями
58-ой советской дивизии у Радомышля. Только в апреле 1920-го года Маруся со своей бригадой объявилась в Повстанческом отряде атамана Куровского, который вел бои с частями Первой конной армии на юге Киевщины.
С ноября 1920-го года бригада Маруси снова действовала самостоятельно, громя продотряды и мелкие советские гарнизоны в Подолье.
Глава первая
I
20-го ноября 1920-го года польское правительство распустило Директорию.
Действующая армия УНР оказалась одна на один с большевиками. Командование украинской армии планировало продолжать наступление с целью дальнейшего освобождения Украины от красного большевистского нашествия. Стало понятно, что поляки свои территориальные вопросы решили, и теперь дальнейшая вооруженная борьба ложится единолично только на плечи двадцатитысячной украинской армии, которой противостояла почти миллионная армия Советской России.
Пока командование определяло порядок и время наступления на большевиков, ее войска, остававшиеся на территории Украины, спешно отступали на территорию Польши.
II
Куренной Артем Онищук вместе с остатками войск УНР отступал в направлении железнодорожной станции Волочиска, где должна была быть организована переправа личного состава через реку Збруч на территории Западной Украины, контролируемой Польшей.
Личный состав куреня за десять дней отступления сократился в своей численности с четырех сотен до восьмидесяти активных сабель.
Курень Артема Онищука ускоренно двигался полевыми дорогами из города Сатанова в направлении Волочиска через городок Войтовцы. Всадники были очень утомлены последними боями с превосходящими силами красных и буквально падали с ног. День склонялся к вечеру и поэтому Артем решил остановиться на ночлег под Войтовцами возле выезда на дорогу, чтобы дать своим казакам хоть небольшую передышку.
Конечно, желательно было бы проскочить к Волочиску побыстрее с тем, чтобы стать на отдых уже на польской территории. Однако была надежда на то, что и красным нужно отдыхать, а потому и они приостановят свое наступление в ночное время. А утром, только появятся первые лучи солнца, курень поднимется и за полчаса пройдет тот десяток километров, который останется до переправы.
Увидев возле дороги Проскуров-Волочиск небольшой сосново-лиственный лесок, Артем дал команду куреню свернуть в тот лесок и остановиться на ночевку. Всадники спешились, привязали коней к стволам окружающих деревьев, начали потихоньку готовить себе нехитрый ужин и стелить постели из листвы и ветвей. Наступила уже третья декада ноября. Польские ночи становились все прохладнее и прохладнее. Они периодически сопровождались пронзительными ветрами с дождем. Хотя период заморозков еще не начался, однако ночная температура уже иногда снижалась до трех-
6
пяти градусов, что не прибавляло особого комфорта часам ночного отдыха.
Распорядившись через своего помощника выставить внешнюю охрану стоянки, Артем и себе начал готовить место для ночевки. Нашел небольшое углубление между корнями старой липы, наломал ветвей орешника и застлал их сверху пластом сухой листвы. К тому, как готовить постель в лесу, Артем был приучен еще с детства. Недаром он вырос и возмужал в живописном подольском селе Соколинцы, которое раскинулось на одном из берегов речки Южный Буг.
По обоим берегам этой реки, как в сторону села Клящев, так и в сторону сел Потуш и Никифоровцы, росли неплохие леса и лесочки. И Артем в детстве, сначала с отцом, а затем вместе со своими товарищами блуждали по тем лесам и лесочкам, разыскивая грибы или ставя ловушки на лесного зверя. Иногда в лесу их заставала темная ночь, и они часто оставались там на ночевку. Отец с матерью и сестры Артема уже хорошо знали эту привычку парня, а потому особенно не беспокоились, ожидая его возвращения следующего дня.
Осенняя ночь прошла довольно тихо и спокойно, только со стороны Волочиска доносился приглушенный гул от движения железнодорожных составов и бронепоездов, которые спешно проходили по мосту через Збруч на польскую сторону. С дороги, которая пролегала возле леска, целую ночь доносился скрип множества телег, которые двигались в темноте по направлению к Волочиску.
Когда первые лучи солнца пробились сквозь лесную листву, Артем резво вскочил на ноги, и в лесу громко прозвучала его команда:
- Внимание! Всем быстро подняться и готовить коней.
Через 10 минут куренной отдал следующую команду:
- По коням, за мной!
Курень потихоньку выбрался на дорогу, и, едва лишь собрался направиться в сторону Волочиска, как кто-то из казаков воскликнул:
- Куренной, смотри, там появилась красная конница!
И действительно, со стороны Войтовцев на проскуровской дороге показалась большая конная бригада Котовского. Вдруг над куренем Артема и колонной котовцев начала взрываться шрапнель. Это батарея из восьми пушек Железной дивизии открыла огонь по красным.
Поняв, что пушечный огонь своей же артиллерии может накрыть и воинов его куреня, Артем отдал команду свернуть с центральной дороги влево в соседний овраг. В течение нескольких минут остатки куреня спрятались от обстрела в том же лесочке, где провели предыдущую ночь.
Котовцы тоже не пошли в наступление прямо на батарею Железной дивизии, а свернули с дороги вправо и начали обходной маневр с тем, чтобы зайти пушкарям с тыла. Расстреляв все свои заряды и сокрушив при этом батарею красных, которая неожиданно выскочила из Войтовцев на открытую местность, батарея Железной дивизии начала спешно отступать в сторону Волочиска.
Спешившись в лесочке, Артем организовал круговую оборону из казаков куреня, после чего собрал на лужайке уцелевших старшин. Старшины расселись кругом на лужайке, и куренной обратился к ним с такими словами:
7
- Панове-братья! Все мы видим, что Украинская армия, оказавшись один на один с
большевистскими ордами, потерпела сокрушительное поражение. Поляки нас предали и заключили с красными позорный мир, по которому должны нас разоружить, интернировать и бросить в лагеря. Наша задача на сегодняшний день заключается в том, чтобы перебраться на правый берег Збруча и выполнить требования поляков разоружиться. Мы сможем это сделать, только переправившись через реку по мосту. Однако мост в Волочиске уже захватили котовцы. Можно найти еще брод, так как река здесь не очень глубокая и широкая, и перейти на ту сторону по нему. Однако, братья, мы еще можем показать грабителям-большевикам, что не все то мед, что им кажется, - продолжал куренной свою речь. – И потому я хочу предложить вам, панове старшины, другой, более рыцарский выход из этой позорной ситуации. Мы можем вернуться назад, на территорию Гайсинщины и Брацлавщины, откуда большинство из нас родом, чтобы продолжить борьбу. Ведь дома и родные стены помогают. Прошу, панове, высказываться, кто какую мысль имеет.
Некоторое время на лужайке стояла тишина, которую нарушала только едва слышная трескотня выстрелов далекого боя. Наконец, тишину нарушил старшина Галайда:
- Панове казаки! Все мы вместе прошли эту кровавую дорогу, которая открылась для нас с ноября 1919-го года, когда под ударами, как белых, так и красных, мы вынуждены были отступать на польские территории. Тогда мы были союзниками поляков, и они к нам относились с определенным уважением, потому что рассчитывали на нашу поддержку в боях с большевиками. А теперь кто мы для них будем? Верно, мы будем просто быдлом, будем их холопами, как это было уже не раз в нашей истории. Поэтому я поддерживаю предложение куренного о возвращении в родные места.
Следующим слово взял старшина Ковальчук:
- Братья! Не хочу я спокойно сидеть где-то на чужбине под караулом польских жолнеров, зная, что дома моих родичей, братьев и сестер грабят проклятые большевики. Поэтому я также голосую за возвращение.
Когда поочередно высказались все старшины, оказалось, что в числе присутствующих нет желающих интернироваться. А потому согласились с возвращением в родные места. В завершение совета куренной Артем Онищук сказал:
- Панове старшины! Ситуация у нас сложилась такая, что с этого момента мы из строевого куреня Действующей армии УНР превращаемся в самостоятельный повстанческо-партизанский отряд. А потому я хочу, чтобы поляки, которые находятся в курене; сегодня же оставили наш лагерь.
Когда утром на следующий день курень армии УНР, а теперь уже повстанческо-партизанский отряд под началом атамана Артема отправился в обратную дорогу к родным местам, из его рядов отделилось девять всадников (поляков), которые повернули своих коней в сторону Збруча.
III
Путь теперь уже повстанческо-партизанского отряда атамана Артема Онищука пролегал на родную Брацлавщину через городки Ярмолинцы, Виньковцы, Ялтушков,
Копайгород, Шпиков, Тывров. Старшине и казакам отряда было понятно, что атаман хочет вернуться в родные места, которые он знал, как пять пальцев на своей руке, что позволило бы отряду определенное время маневрировать, избегая прямых стычек с большевистскими войсками.
Однако полностью таких стычек избежать не удавалось. Большевики, освободившие вследствие мира с поляками свои регулярные войсковые части, бросили их на борьбу с остатками Действующей армии УНР и региональными повстанческими отрядами.
Одним из таких отрядов был отряд Маруси Соколовской, который под давлением превосходящих сил большевиков отступал из родного Горбулево, что под Радомышлем, на территорию Брацлавщины. Ситуация заставила атамана Артема Онищука и атаманшу Марусю Соколовскую объединиться в борьбе против общего врага.
Кроме отряда Маруси Соколовской в начале декабря 1920-го года к отряду Артема Онищука присоединились также отряды атаманов Лихо, Якубенко и Винтиженко. Объединенный отряд под общим командованием Онищука в это время насчитывал больше пяти сотен человек и имел на вооружении артиллерийскую батарею из восьми пушек.
Первая встреча атамана Артема Онищука и атаманши Маруси Соколовской состоялась в доме лесника, который находился возле села Никифоровцы Брацлавского уезда. Дом этот был построен в центре довольно большого леса, который простирался между селами Потуш и Никифоровцы. Дом лесника находился на довольно значительном расстоянии от основных дорог. Это позволило Артему надежно организовать охрану, разместить по окраинам леса дозорные посты. Дом лесника с хозяйственными строениями были построены добротно и обеспечивали размещение всех семи десятков казаков отряда Онищука. Артем и раньше, воюя в отряде Анания Волынца, встречался с братьями-атаманами Соколовскими. Но их младшую сестру Александру, которая, как атаманша, приняла псевдоним Маруся, видел сегодня впервые. Перед ним стояла стройная, небольшая по росту, еще совсем юная девушка, которая была одета по-мужски в теплый полушубок.
Полушубок был перепоясан патронными лентами и поясом, на котором висела кобура маузера и короткая шаблюка. Первое на что обратил внимание Онищук, так это на острый взгляд глаз атаманши, который словно бы пронизывал все его естество вопросом – кто ты есть, и могу ли я на тебя положиться в бою? Этот острый взгляд явным образом излучал не женскую кротость, а скорее воинский запал. Образ атаманши дополнял короткий карабин, заброшенный через ее хрупкое плечо.
Атаманша ездила верхом как заправский казак и довольно хорошо владела карабином. Как и ее братья, была отважной, а среди повстанцев пользовалась заслуженным авторитетом. Неудивительно, что после смерти братьев она приняла
9
командование над их отрядом.
IV
Александра Соколовская была последним ребенком в семье уже немолодого казака Тимоша Соколовского, который по ему одному известным причинам забрел в глухое село Горбулево из Чигирина. Однако именно в Горбулево нашел Тимош ту женщину, которая родила ему восьмерых детей. Евдокия, так звали его жену, походила из довольно богатого рода местных мещан Квасинских.
Женившись, Тимош построил дом рядом с церковью, в которой устроился работать дьяком. В этой церкви окрестил своих четверых сыновей - Степана, Василия, Дмитрия, Алексея и троих дочерей - Анну, Веру, Устину, а в декабре 1902-го года четвертую самую младшую Александру.
V
Рожденные все же в казацкой семье, сыны дьяка Тимоша Соколовского не смогли не стать на защиту украинской государственности в 1918-ом году. Первым в руки оружие взял самый младший сын Тимофея – Алексей, которому к тому времени исполнилось всего восемнадцать. В конце ноября 1918-го года, услышав призывы Украинского национального союза, он организовал из молодых жителей Горбулево и окружающих полеских сел Корчивки, Слипчиц, Головина свой первый отряд и пошел выгонять гетманскую власть из Радомышля. Затем он поднял саблю и на большевиков, которые воспользовались разрухой и обольшевичивали Украину, пришли за хлебом из России. На этот раз Алексей отозвался на призыв бывшего уездного комиссара Юлия Мордановича, который приезжал в Горбулево. Вначале отряд Соколовского насчитывал две сотни казаков.
Сталось это еще при германцах и гетманате, когда по селам разъезжали карательные отряды государственной охраны. Забирали в селах скотину, имущество, все, что им хорошее попадалось под руку.
В Радомышльском уезде бесился помощник уездного старосты Вержбицкий. Он собрал сотню грабителей и разгуливал по селам, устраивая экзекуции. Бил до крови тех, кто не снимал перед ним шапку. Дошло до того, что в Потиевце он остановил свадьбу, когда молодой с боярами шел к своей невесте, и плеткой заставил всех танцевать для него.
- А ну-ка, врежьте гопака для пана, - приказывал Вержбицкий, уже сам себя называя паном.
Алексея бесило, что пан и его подчиненные говорили по-московскому, а называли себя гайдамаками.
- Казаки безъязыкие, - плевался Алексей.
Его старшие браться Василий и Дмитрий были учителями горбулевской гимназии,
10
в которой директором была Дмитриева жена Надежда Круглицкая. Раньше в Горбулево
была земская школа, но когда свершилась февральская революция, уже весной
Соколовские сделали ее украинской гимназией. Таких тогда не было даже ни в Радомышле, ни в Житомире. Разрешили братья быть учительницей и своей младшей сестре Александре, хотя она сама еще училась в Радомышльской гимназии (в этой гимназии преподавание велось на московском языке). Алексей иногда на тачанке возил ее в город за тридцать пять верст. Александра всегда была у них панной, ела только с ножом и вилкой, даже свое любимое картофельное пюре подгребала ножиком на вилке. Она и разговаривала грамотнее всех, учила Алексея, хотя он был старше, чем она, на два года, но говорил так по-здешнему, как говорили все горбулевцы. Алексей не сердился, наоборот, гордился своей сестричкой, и когда вез Александру тачанкой до Радомышля, ему хотелось, чтобы все их видели. А то ж, вы посмотрите на эту панну в лисьей шубке, из-под которой выглядывает зеленое шелковое сукно аж до блестящих черевичков. Ножка у нее красивая, прямая, с высоким подъемом, а на раскрасневшемся от холода носике даже не видно родинок, хотя они тоже ей были к лицу. Еще нет шестнадцати, а уже, почитай, учителька! Все Соколовские тянулись к школе, только Алексею не хотелось учиться. У него были свои планы.
Одного дня налетел на село, где жили Соколовские, помощник старосты уезда с кадюками (охранниками): давай свиней, давай овес, давай, кто что припрятал. Хату дьяка Тимофея Соколовского они пропустили, но на Алексея наскочили уже за селом, когда тот возвращался от итальянца Ливы. Кужу Лива прибился к Горбулево из далекой Италии, купил тут землю, заложил каменярку и продавал горбулевский лабрадорит чуть ли не по всей Европе. Алексей того дня ехал на новом конском седле. Когда увидел Вержбицкий то новенькое сидельце, аж затрепетал:
- Ты куда это, вор, собрался в таком седле? А ну давай его сюда!
Алексей уперся, насупился, но на него налетела целая куча кадюков, и всыпали Алексею таких синяков, что он неделю лежал больным. Когда поднялся, разыскал Тимофея Олексеенко по кличке Корч и Родиона Тимошенко, которые уже давно прятались от Вержбицкого, так как они поймали его двух кадюков и утопили за селом в карьере. Тимош Корч прошлый год крестил сына Алексеевого брата Дмитрия, и они очень быстро нашли общий язык. Поручили Алексею организовать партизанский отряд, в который потянулись все, кому Вержбицкий залил сала за кожу. Алексей всех не принимал, он принимал только тех, кто имел лошадь и оружие, и осенью1918-го года он уже имел “горбулевский отряд” из трехсот казаков. Алексей стал атаманом отряда.
Когда он настроился идти на Радомышль, он переименовал свой отряд на “курень смерти”. Как раз тогда гетман Павло Скоропадский отрекся от власти, и немцы начали собираться домой. И Гетманат, и немцы сидели тихо, как мыши, когда Алексей с казаками вошел в Радомышль, окружив на Торговище карательный отряд государственной власти, где пригрелись шкуродеры Вержбицкого, и горбулевцы перестреляли всех, кто не успел убежать. Только не нашли там Вержбицкого. Тогда “курень смерти” подошел к немецкой комендатуре, и Алексей потребовал от коменданта выдать Вержбицкого.
Комендант немец Вибе через переводчика объяснил, что Вержбицкий накивал пятками и, как бы не доверяя своему переводчику, пробежал пальцами правой руки по
11
ладони левой – показал, как накивают пятками. Алексей ему поверил. И потом не мог себе простить, что не перевернул немецкую комендатуру вверх дном, так как на следующий
день он узнал, что Вержбицкий прятался в комендатуре. И только утром он убежал вместе с немцами. Алексей был удовлетворен хотя бы тем, что пустил под лед нескольких кадюков Вержбицкого в речку Черч. Отправил кормить раков и одного из тех шкуродеров, который вместе с Вержбицким поднял на Алексея плетку.
Атаман “куреня смерти” вернулся в Горбулево на чудесном белом коне (“прикупил” у кадюка), в широкой кавказской бурке, одетой поверх черкески с нашитыми на грудях газирями-гнездами для набоев с патронами для карабина. На нем блестели также высокие кавалерийские сапоги, с серой шапки свисал до пояса широкий красный шлык, который послужил позже большевикам назвать Алексея “Кровавым Оселедцем”. Завершала этот парадный наряд длинная гусарская сабля, которая концом доставала до земли и тянулась по ней за атаманом.
После возвращения домой Алексей имел разговор с братом Дмитрием.
- Ты сделал то, что должен был сделать я, - говорил Дмитрий. – Я все-таки прапорщик и уже понюхал порох. Но ты не знаешь, что меня удерживает?
Алексей хлопал длинными белыми ресницами (все Соколовские были белобрысы, в том числе и ресницы), и старался понять, к чему ведет брат.
- Я не хотел идти против гетмана, - продолжал Дмитрий. – Пускай эта власть плохая, но мы имеем государство. Что будет дальше, не знает никто, даже когда снова вернется Петлюра. Он возглавит Директорию. Это, братик, будет наша власть. Поэтому я хотел тебе сказать, что мы должны настраиваться с ним ужиться, - Дмитрий на минуту запнулся, затем договорил, - нежели гоняться за Вержбицким.
Это немного задело Алексея, и он спросил:
- Что ты хочешь лично от меня?
- Ты сделал хорошее дело, - примирительно сказал Дмитрий. – Но ты не видишь, что в противовес петлюровскому восстанию поднимают головы и большевики. Дальше они протянут руки к Москве. И это будут наши наибольшие враги. Если ты готов и с ними бороться, то я с тобой. С меня шапка не упадет, когда я для начала возглавлю в твоем курене конную сотню.
- А потом? – спросил Алексей.
- А потом... – Дмитрий Соколовский посмотрел своему безумному брату в глаза и сказал то, что потом будет повторять не один раз: – Будем держать Украину.
Дмитрий видел далеко. Незадолго в Радомышле, Коростышеве, Брусилове зашевелились “ерусалимские казаки” со своими ревкомами и наркомами. К ним присоединились некоторые местные пролетарии, которые тоже не хотели признавать, как они говорили, петлюровской власти. Были эти люди упертые и лукавые, иногда задурманенные большевистской блевотою, иногда одержимые, но всегда враждебные к украинской самостоятельности. Завелась некоторая новая порода активистов во главе с Моисеем Токарским, а возле них постоянно крутилась и новая порода женщин – Соня Портной (именно так – не Портная, а Соня Портной), Роза Шейнблат, Клара Вера, Пипка Цимерман. Почему новая порода? Так как все женщины были похожи одна на другую – сухолицы, коротко стриженные, с крепко стиснутыми губами. Кажется, они только и
12
умели сидеть на собраниях да вовремя поднимать и опускать руки, но еще, может, могли б носить передачи в тюрьму для своих соратников. Поэтому неудивительно было, что к ним присоединялись и свои, как говорил Дмитрий, хохлы – вылупки, которые колотили в городах рабочим людом.
Дошли до того, что в Коростышеве они обольшевичили даже отряд вольных казаков, сформированный преимущественно из местных каменотесов, которые во время разрухи не работали. Голодные и ошалелые от голода, работники легко поддавались на большевистскую пропаганду. Командиры этих “казаков” Калистрат Гелевой и Иван Щуренок пошли на неслыханное нахальство. Они получили в Фастове оружие от петлюровского штаба, присягая, что пойдут на фронт, а сами власть обманули. Они спрятали в лесах возле Коростышева триста винтовок и двести пятьдесят тысяч патронов и никуда не пошли. Кроме того, Гелевой со Щуренком ждали нужного момента, чтобы повернуть это оружие против тех таки буржуев-петлюровцев.
“Разобраться” с “вольными казаками” пошел со своим отрядом Алексей Соколовский. Окружил строение волостной управы и увидел, что в то время в одной комнате мирно соседствовала комендатура Директории и штаб большевистского ревкома. Когда охрана была разоружена, и Алексей - в черной бурке, черкеске с газырями на груди, в шапке с красным шлыком – вошел в канцелярию – там мирно беседовали ревкомовцы Калистрат Гелевой, Иван Щуренок, и петлюровский командир Пилькевич.
Белая сабля на колесике вкатилась следом за атаманом, потом зашли его адъютант Петрусь Зозуля, члены штаба Тимофей Олексеенко и Родион Тимошенко. У каждого на рукаве была черная повязка с белым черепом и двумя костомахами.
- Что казачки? – не приветствуясь, обратился Алексей к трем незнакомым ему мужчинам. – Совдепию собрались разводить?
Гелевой со Щуренком молчали, а Пилькевич, хватая ртом воздух, начал оправдываться, что нет, пане атаман, сохрани Боже, нет тут никакой совдепии, и из его дрожащего голоса было видно, что этот безвольный человек оказался под чужой пяткой.
- Кто тут Щуренок, а кто Гелевой? – не слушая его, спросил Алексей.
Ревкомовцы назвались.
- Обоих под арест, - сказал Алексей.
- За что? – в один голос спросили Щуренок с Гелевым.
- Вы знаете. А будете придуриваться – для вас будет хуже.
- Может, сперва поговорим? – боязно спросил комендант Пилькевич.
- Садитесь с ними под арест и там поговорите, - сказал Алексей.
- Вы затеваете братоубийственную войну, - бросил через плечо Гелевой, когда их выводили из канцелярии.
Закрыли обоих не в холодную, а в отдельную комнату, но Гелевой и там замерз. Он начал просить часовых казаков, чтобы его отвели до пана атамана, так как он имеет сказать что-то очень важное. Алексей разрешил. И тут Гелевой расплакался. Наконец, вытерши слезу, он сказал, что дома у него осталась больная мать, у которой нет никого, чтобы даже подать воды, что она умрет, если он не сбегает хоть на минуту домой.
- Бежать собрались? – спросил его Соколовский.
- Бежать мне нет куда, - сказал Калистрат. – А для большей гарантии я вам, пане
13
атамане, напишу расписку, что я арестованный и обязуюсь через час вернуться.
- А что, - по-детски поймал ртом воздух комендант Пилькевич. – Пускай напишет
расписку, я поручаюсь, что Гелевой своего слова держит. Мать у него действительно на ладан дышит.
Алексей поверил.
Гелевой вышел во двор и увидел, что горбулевские казаки оседлали коней, которые принадлежали красным партизанам, и вытворяют на них такие штучки, как цирковые артисты. Гелевой вначале все-таки подался домой, быстро пообедал, а потом побежал в лес. Промерзнув там дотемна, попросился в хату надежного друга Петра Антоновича, который жил возле леса. Диво дивное, но ночью прибился туда и Иван Щуренок. Он убежал из-под ареста через окно – кто-то ему помог.
Гелевой со Щуренком сидели в хате, пока Петр Антонович ходил в город на разведку. Говорил, что их, убежавших, ищут везде. Соколовский разъезжает со своим штабом по Коростышеву на белом коне, наложив на евреев контрибуцию в двести тысяч: говорил, что они платили совдепам, значит и нам должны платить. Боясь погрома, напуганные евреи собирают деньги.
Пролилась и первая кровь. Соколовцы расстреляли Леонида Бахтинского, одного казака из отряда Гелевого, за то, что тот, бывший конокрад-уголовник, хотел украсть буланого жеребца у самого Тимофея Корча.
- Батя с воза, - сказал Гелевой. – Я б и сам его прикончил.
Он попросил Петра Антоновича по тихому созвать его людей, пускай пересказывают один другому, чтоб сегодня ночью собрались на Кудрявце в хате Иосипа Панфилко.
Выдалась темная и морозная ночь. Собралась почти сотня вооруженных людей. Гелевой знал, чем их подогреть. Он сказал, что Соколовский на утро готовит погром и пострадают не только евреи, но и многие каменотесы. Петлюровцам начхать на бедных каменотесов – нужно самим защищаться.
К городу вышли четырьмя группами, одна из них направилась захватить телефонную станцию, которая стояла на окраине. Когда там послышались выстрелы, Алексей с адъютантом Зозулей и пятью казаками поскакали разбираться, что случилось. Тем временем нападающие быстро вернулись к своим, и Алексей застал на станции только свою горбулевскую охрану. Никто не понял, что была за стрельба. Может, кто-то спросонья развлекался и пошел спать. Успокоив казаков, Алексей поехал в штаб.
Белый конь, ступив одним копытом на мост через Тетерев, заострил уши. В темноте осветился огонь винтовочного выстрела. Пуля прошла черную бурку, черкеску и расписку, которую Гелевой дал атаману. Стрелял в Алексея Щуренок, и он же попал ему в сердце.
Алексей упал на мост. Его адъютант Зозуля кинулся к атаману, но не успел даже соскочить с коня, как прозвучал второй выстрел. Смертельный выстрел остановил Петруся Зозулю. Послышался еще выстрел. Под ливнем пуль еще пять казаков вынуждены были галопировать, куда глаза глядят. Вслед за ними, разрезая грудью холодную темную ночь, побежал и белый конь Алексея Соколовского.
Без атамана остатки горбулевцев растерялись, запаниковали, каждый спасался, как
14
мог. Кое-кто бросился в бега через Тетерев, провалившись на тонком льду, и выкарабкивался вместе с лошадью, кое-кто попал в плен. Осчастливленный победой,
Гелевой отпустил своих людей домой. Сказал пленным, чтобы они передали родным Кровавого Оселедца, что те могут забрать тело. Его никто не будет трогать, оно задубелое будет лежать на морозе, пока не растащат звери, то пускай приезжают.
Приехал за Алексеем горбулевский дьяк Тимофей Соколовский вместе с дочерью Александрой. Она сама попросилась, хоть и страшно было, но она знала, что так отцу будет легче. Возил когда-то ее Алексей в Радомышль, теперь она его повезет, только не тачанкой, а на санях, запряженных парою все-таки тех лошадей.
Алексей лежал под перилами моста, раздетый до белья, кто-то поживился его буркой, черкеской, саблей и казацкой шапкой с красным шлыком. Он был совсем не похож на себя – чужое обмерзшее лицо с заледенелыми веками уже утратило даже маску смерти. Белые волосы огрубели, шея почернела, нижняя сорочка на груди была бурая от крови.
- Разве это Алексей, папа? – спросила Александра.
- Алексей на небе, - ответил Тимофей Соколовский. – А это его прах.
Он сам взял на руки загрубелое тело сына и положил на сани.
Ехали долго без разговоров. Александра думала, что нужно оплакать брата, но горло ее окаменело, в глазах было сухо и пусто. Поэтому она поздно заметила, что едут они не той дорогой, которою они ехали до Коростышева. Перед Каменным Бродом старый Соколовский повернул на Кантановку.
- Отец, - сказала Александра. – Мы ж не туда поехали.
- Туда, - ответил отец.
Дальше старый взял под леском на Пилиповичи.
- Похороним Алексея так, чтобы никто не знал, где, - сказал он. – Есть тут свои люди. Помогут выкопать яму. Земля мерзлая.
- Алексея ждут дома, - сказала Александра.
- Ничего, меньше будет плача. – Он достал из мешочка на передке саней желтую свечку. – Перед тем, как опустим в яму, дашь ему в руки свечку. – Он протянул ей свечку.
Александра взяла свечку, и вдруг ее как будто подкинуло.
- Отец, смотри!
Старый повернулся и не поверил своим глазам.
Их догонял белый конь Алексея.
Глава вторая
I
После соединения отряда Артема Онишука с другими отрядами объединенный отряд под общим руководством Артема Онищука в начале декабря 1920-го года расположился в старых окопах в лесу за десять верст от Гайсина. Этот укрепленный район остался еще со времен войны 1914-го года и предназначался для организации новой линии обороны в случае отступления войск царской армии. Кроме глубоко вырытых и хорошо укрепленных деревом окопных коммуникаций, здесь также были неплохо построенные блиндажи и огневые точки. Все это позволяло рассчитывать на зимовку отряда в довольно приличных условиях.
Поэтому командование объединенного отряда приняло решение провести подготовку блиндажей и коммуникаций к зимнему базированию. Не затягивая этот вопрос, весь личный состав приступил к приведению базы своего расположения к жилому состоянию. Начались работы по укреплению стен и крыш блиндажей, утеплению помещений и установлению в них дровяных печей. Отдельным подразделениям, которые имели через своих казаков связь с местными крестьянами, удалось даже достать и установить в блиндажах железные печки-буржуйки.
Хозяйственная часть занялась заготовкой провианта, для чего периодически снаряжались продовольственные отряды. Эти отряды, прежде всего, реквизировали продуктовые запасы на близлежащих складах, охраняемых большевистской властью, и которые готовились для отправки в соседнюю Россию.
Конечно, такие действия не могли остаться незамеченными властными структурами большевиков, боевые части которых к тому времени, в результате мира с поляками, были полностью брошены на борьбу с остатками армии УНР.
Пока повстанцы обживались в теплых блиндажах, атаманы отдельных отрядов собирались в блиндаже атамана Артема Онищука, планировали совместные действия.
Однажды после очередного сбора атаманы начали уходить. Когда уходила Маруся, Онищуку не хотелось с ней прощаться. Он ее задержал и задал вопрос:
- А почему твоя бригада называется именем Дмитрия Соколовского?
II
За гибель брата Алексея Дмитрий Соколовский взял вину на себя, что тот так глупо погиб. Не знал он всей правды. Долго ходил молчаливый, ничего не слышал, никого не видел. Жил с женой и малолетним сыном Евгением в двух комнатах гимназии, и часто выходил к ветряку (мельнице), что стоял на краю села напротив их окон. Садился там, курил, мечтал. Долго смотрел на горизонт, что висел за версту от села в сторону
Радомышля. Что-то чертил палочкой на снегу.
16
Однажды он решил проехаться к отцу, зашел в стойню, где в потемках стоял конь Алексея. Он оседлал его, не заметил, как выехал за село. Застоявшийся жеребец легко переходил на аллюр, был мягким в поводьях, сиделось на нем удобно, как будто в кресле. Вернувшись домой, Дмитрий застал односельчан.
К нему пришли Тимофей Олексеенко-Корч, Нечипор Крулодерс и Митяй Мазур из Пилиповичей.
- Делайте что-либо, Дмитрий Тимофеевич, вы же офицер. Неужели подарите им смерть брата? – обратились они к нему с просьбой.
Неизвестно, что на это ответил бы прапорщик Соколовский, если бы знал, что его ожидает впереди. Не мог же он знать, за сколько миллионов оценят его голову те, кто покусится на те деньги. Поэтому ответил им так, как когда-то говорил брату:
- Будем держать Украину.
Вначале он собрал небольшой отряд, до полусотни проверенных казаков, а когда пришла весна, атаман Соколовский имел уже целое войско. Несколько тысяч повстанцев трудно было держать вместе. Тогда Дмитрий поделил их по селам на сотни и созывал в нужное время бить москаля. После того, как такое дело было сделано, атаман отпускал казаков домой хозяйствовать.
Штаб снова взял под свою руку Тимофей Соколовский. Дмитрий хотел, было, отговорить отца, но старый топнул на него ногой, мол, не командуй, а то сниму ремень, тогда увидим, кто из нас старший.
Они и не поняли, как в их дело влилась и Александра. Как-то после службы Божьей дьяк Соколовский увидел, что возле церкви собралось много парней и старших мужчин. Подойдя к ним ближе, он обнаружил в центре круга свою младшую дочь, которая убеждала всех, кто носил штаны, идти в повстанцы.
- Снова кровь проливать? – загудел кто-то в толпе.
На что Александра ответила:
- Не думайте, что ваши головы уцелеют, особенно тех, кто, сидя на печке, нагревает рабскую надежду, что беда обойдет его стороною, - говорила она. – Придут красные и стащат вас с печки
“В кого она такая удалась”, - думал Тимофей Соколовский. – “Да в кого же? Бабка была у нее ведунья, умела ворожить, все способности перешли к ней от бабки”.
Ее слушали, раскрыв рты, как будто бы девка их на свадьбу звала и обещала каждому дать по свадебной шишке.
Александра, глянув на Александра Кулибабу, который недовольно шмыгал носом, сказала:
- “Страхопуд” может тоже высиживать яйца в тепле, как та наседка (тут все загигикали), но пускай пеняет на себя, когда красный петух клюнет его в “подушку”.
Пройдет некоторое время, и Тимофей Соколовский собственными глазами увидит, как этот “страхопуд” Александр Кулибаба встретится в рукопашном бою с красными. Трое пойдут на него со штыками, а Александр схватит винтовку за ствол и будет ею бить, как будто клешней по головам, до тех пор, пока не распотрошит черенок своей винтовки. Только ствол останется в руках Александра, пока недобиток попросит его:
- Добей, браток.
17
А он ответит:
- Черт тебе брат, - и вытрет потный лоб окровавленным рукавом. – “Чем же я тебя добью, - оправдывался Александр, - как ты своей макитрою мое ружье поломал. Не надо было лезть под горячую руку”.
В последующем Александра Соколовская была связною отряда и однажды принесла весть, что от Житомира на Коростень пойдет эшелон с красными кавалеристами и верховыми лошадьми. Дмитрий решил встретить своим отрядом гостей ночью возле Андреевки. Подождали, пока проскочит проверочный порожняк. Один из казаков, Матвей, приложив ухо к рельсам, определил, что через минут десять эшелон будет тут, предложил, что пора разбирать путь. Разобрали, залегли в защитной лесополосе. Из темноты высветилось око света, послышалось бодрое чихание паровоза. Кто-то почувствовал под “ложечкой” тепло, кто-то холодок. Матвей натянул шапку выше на лоб. Даже в темноте было видно его блаженную улыбку.
Машинист увидел разобранные рельсы, резко затормозил, но поздно, грохнули буферы, заскрежетали колеса, вагоны полезли один на другой. Поднялся крик, гвалт, испуганно заржали лошади, стуча копытами об пол вагона. Казаки прошлись по эшелону из пулемета, но на всякий случай бросили под паровоз несколько гранат.
Парни рвались в бой, но из вагонов никто не отстреливался. Дмитрий дал команд
прекратить огонь. Когда все стихло, вдруг начали открываться двери вагонов, и оттуда полетели на землю винтовки, револьверы, сабли. После того с поднятыми руками выходили красноармейцы, становились рядком вдоль путей, слепо всматриваясь в ночь. Двое бросились бежать к лесополосе, но их нагнали пули от стрельбы Тимоша Корч.
Дмитрий растерялся, столько пленных, куда же их деть?
Хлопцы тем временем собирали на земле трофейное оружие, выводили из вагонов лошадей, выносили седла, ящики с боеприпасами, нашли даже пять легких пулеметов. Девяносто лошадей с седлами и новенькие “льюисы” так обрадовали атамана Соколовского, что он решил отпустить пленных.
- За то, что вы не чинили сопротивления, я дарю вам жизнь, - сказал Дмитрий. – Едьте в свою Россию и больше сюда не возвращайтесь. Еще раз мне попадетесь – расстреляю на месте.
Матвей не поверил своим ушам.
- Плохо, - сказал он. – Они-то уедут в свою Москву, но не они сами, другие на нас их пошлют. Дурное дело делаешь, атамане. Я бы их выкосил до одного.
- Поздно, - остудил его Корч. – Не годится атаману противоречить.
III
Когда отряд Дмитрия Соколовского увеличился до 500 человек, 24-го февраля он снова пошел на Радомышль, где в своем большинстве были евреи, выгнал большевиков и восстановил власть Украинской Народной республики. Но 2-го марта большевики снова
ворвались в уездный центр. Потребовалось Дмитрию возвращаться в Горбулево, куда он
18
отошел на отдых.
8-го марта, дав красным тяжелый бой и нанеся им большие потери, Дмитрий Соколовский вновь отвоевал для украинцев уездную твердыню с населением, не очень склонным к Директории. К победителям присоединялись все новые повстанцы.
Дмитрий упорно бился против большевиков, разбивал их полки, рвал провода связи между вражескими войсками, разрушал железнодорожные пути. В боях повстанцы добыли много винтовок, пушек, пулеметов. Оружия было так много, что Соколовский с княжеской добротой раздавал его польским казакам соседних сел. Поэтому они и признавали его первенство, склонив голову перед юным батьком-атаманом, шли под его победные знамена.
Большевики признавали, что весной 1919-го года повстанческие отряды Соколовских и Илька Струка были “крупным очагом кулацко-бандитского движения” на Правобережье. Соколовцы взяли под свой контроль Радомышльский уезд. Из города и уезда пропало все, что называлось советской властью, или то, что ее поддерживало или сочувствовало.
Хотя в Радомышле находился 151-ый советский полк, но его боевые силы оказались недостаточными, чтобы победить украинскую стихию. Местные большевики громко кричали, просили Киев и Житомир помочь войском. И москали перебросили в Радомышль 15-ый пограничный полк, а за ним еще несколько частей.
Направляли к Радомышлю красные полки с одной стороны, но другие три направления контролировали казаки Соколовского и других атаманов.
25-го мая 1919-го года Дмитрий снова выбил москалей из Радомышля. Лозунгом повстанцев было: “Не дадим, чтобы враг пришел в Горбулево”.
Почти в каждом селе уезда Дмитрий сформировал казацкие сотни. Война войной, а семью кормить нужно. Если была возможность, он разрешал казакам заниматься собственным хозяйством.
IV
После того, как Дмитрий побил красных от Радомышля до Звягиля (ныне Новгород-Волынский), подмосковный большевистский Совнарком, что находился в Харькове, объявил бандитского атамана Соколовского вне закона. 20-го апреля, на Великдень, красные двинулись на Горбулево – надеясь в такой праздник напасть на соколовцев внезапно. Три сотни пехоты, конный полк и две пушечные батареи подходили к селу со стороны Чайковки.
Узнав о вражеских пушках, Дмитрий сник: если дойдет дело до боя, то село превратят в разруху. И он решил оставить Горбулево. Сбор повстанцев назначил в соседнем лесу.
Москали спокойно вошли в село, удивились тому, что здесь нет никаких гайдамаков, которыми их пугали. Собрали людей на майдане, и их командир Аралов, крепкий горбоносый человек с козлиной бородкой, приказал выдать атамана Соколовского, в противном случае они сожгут село, а заложников расстреляют. Аралов
19
говорил с людьми, не слезая со своего дончака (коня), который порывисто перебирал
ногами.
- Не хотелось бы в такой день портить вам всем настроение, - сказал он, доставая из портсигара сигарету и постукивая ею о серебряную крышку. – Но если выдадите нам бандита, то все обойдется.
- Конечно, найдем, - вышел вперед дед Горошко, который также когда-то служил в армии и был там, как он хвастался, правой рукой царя. – Атамана сейчас, видимо, нет, он засел где-то на пасеке и глушит самогон... – дед Горошко провел рукой по горло. – А мы его вам теплого и найдем. Только вы, товарищ, не побрезгуйте нашей паскою и колбасою. А и солдатики пускай причастятся крашенками.
- Хорошо, - сказал Аралов. – Только без шуток. Со мной такие шутки не пройдут.
Он разместил свой штаб здесь же возле майдана в еврейской школе при синагоге, идо вечера вся солдатня, что расквартировалась на хатах, была пьяна. Кое-кто из них в сарае уснул на сене, кто-то захрапел под печкой в доме, и сам командир кавполка Аралов, выставив охрану, спал в теплой постели. Ему пообещали до утра найти Соколовского, а если не найдут, то атаман и сам придет, чтобы не пострадали его односельчане. Он такой.
В полночь сестра Дмитрия Александра тайком пришла в село разведать, чем занимаются москали. Но не увидела на улице нигде ни одной живой души, везде было тихо, и глубокая тишина навевала на нее тревогу. Однако у своих узнала, что москали все пьяны. Возле костела она набралась такого страха, что еле устояла на ногах. От польского кладбища на нее двинулось что-то темное и большое, оно сильно дышало, сопело. Александра с перепугу застыла, не имея сил убежать. Вдруг оно остановилось и заревело не собственным голосом на все село. Прошло некоторое время, пока она пришла в себя, поняла, что это был большой бык, который где-то оторвался от привязи и теперь ходил неприкаянный в темноте. Он тянул за собой длинную веревку, прикрепленную к кольцу в носу, крутил головой, рыл ногами землю, ревел, и в его реве слышалось такое отчаяние, что от него дрожал весь свет.
Александра побежала к лесу, не оглядываясь, хотя ей казалось, что это привидение сопит ей в спину. Она рассказала Дмитрию, что москали перепились, спят, и тот приказал окружить Горбулево со всех сторон так, чтобы отступление карателей оставалось в направлении Чертового леса. Лес этот был заболоченный, в его болотах могли водиться даже черти, перейти это болото было трудно даже своим, а чужим и подавно. Главное – направить карателей правильно. Для этого Дмитрий указал поставить с трех сторон Горбулево пушки и стрелять так, чтобы снаряды перелетали село и только наводили страх, огонь усиливать стрельбой из пулеметов.
Одну сотню он разместил на острове в Чертовом лесу, куда можно было добраться лишь узенькой речечкой. Если кому-то удастся найти брод, то “счастливчик” попадет прямо в плен казакам.
Открыв огонь среди ночи, Дмитрий в Горбулево не заходил, давая москалям добежать до Чертового леса, чтобы не биться с ними в селе. Когда охрана доложила, что конница и пехота поперли на болото, тогда казаки тихо вошли в село посмотреть, никто ли здесь не остался. Кое-кто из “гостей”, не имея чести, все-таки остались, и вынуждены были рассчитаться за Великдень и ужин жизнью. Смешную штуку увидел Дмитрий на
20
подворье деда Горошко: “правая рука царя” связал веревкой двух пьяных кацапчуков и
проводил с ними воспитательную работу:
- Вы хотели видеть атамана Соколовского? Так куда же вы убегаете, вот он пришел.
А в Чертовом лесу красная кавалерия втемную месила трясину. Кони брели по чрево в болоте, конники гребли ногами грязь, задирали их вверх впереди себя, и казалось, что они едут на коровах. Так говорил Александр Кулибаба, который побывал на островке и много чего видел.
Комполка Аралов находился впереди, не видно было не то что его “белых шкарпеток”, но и ног, конь не шел, а полз по болоту на животе. Аралов, заляпанный грязью, походил на сатану, который оседлал безногую скотину. В этой толчее он потерял картуз. Александр и предположить не мог, что это едет командир, и доведенный до отчаяния Аралов сполз с дончака и потянул его за повод к речечке, которая счастливцам давала помощь выбраться на сухое. Именно тогда, когда Аралов ступил в воду, Александр прицелился, затаил дыхание и нажал на спусковой крючок. Чертовым лесом покатилась крученая луна, на конце ствола блеснул огонь, ослепив Александра, и он услышал, как кто-то шлепнулся в воду.
Горбулевцы потом объяснят Александру, что он прикончил самого Аралова, так как найдут у убитого серебряный портсигар и отдадут этот портсигар Александру, как его законную трофейную добычу.
- Подумаешь, - хихикнул Александр с удивительным спокойствием, - какой-то там Аралов. Я когда увидел его на болоте, особенно его козлиную бородку, то подумал, что это был сам главковерх Троцкий.
Александр Кулибаба как будто накаркал. В мае против Дмитрия Соколовского красные бросили 5-ый конный полк имени Троцкого, потом еще два пеших полка. Но Дмитрий был удачлив. Он умело оборонялся, придерживаясь старого правила, что партизаны лучше бьют врага тогда, когда убегают от него. Хотя и сам нападал, неоднократно выметая красных из Радомышля, Звягиля, ходил на Макаров и Бишев. Большевики обвиняли его в погромах, но это вранье. Придя в начале июля в Звягиль, Дмитрий собрал городское население и обратился к нему от чистого сердца:
- Мое слово в первую очередь до сынов Израилевых! – сказал Дмитрий. – Никто так не любит вас, как я. Поверьте, в моем селе я рос вместе с такими, как вы, и между нами никогда не было боев. Я готов защищать каждого из вас, но имею только одну просьбу. Не стреляйте нам в спину. Если кому-то не подходит Украина, за которую мы ложим свои головы, то пускай ищет себе иншую страну. Мир большой. Но еще раз скажу, не стреляйте в нас из-за угла, не плюйте в душу християнам, не оскверняйте наши церкви.
В Звягиле дошло до того, что члены ревкома Чорненький, Циолтан и Ананьев отобрали у духовенства книги актов гражданского положения, а когда парифияне запротестовали, не пожелали покинуть церковь, прибывший караульный батальон открыл огонь по церкви. Прихожане в панике разбежались, но уже следующего дня против караульного батальона поднялось две тысячи хлеборобов из окружных сел. Они вошли в городок с цепями, вилами и палками. Половина бойцов из пятисот красноармейцев караульного батальона отказались стрелять в своих одноверцев. А те, что остались на
21
стороне ревкома, косили невооруженных людей из пулеметов. Сильнее злились
ревкомовцы – под их пули попали даже женщины и дети.
В Звягиль влетел со своей конницей Дмитрий Соколовский, и на этот раз вместо атамана заговорила его подруга сабля. Половину красных соколовцы уничтожили с разгона, остатки разбежались, кто куда. Большинство попрятались в самом городе, разозленные селяне выискивали их по хатам, крамничкам, по сараям, подвалам, каморам и отдавали казакам.
Наказания не прошли мимо ревкомовцев, которые издевались над священниками. Ананьева и Циолтана нашли в подвале магазина по продаже металлических изделий, где и порешили их на месте. Чорненького вытащили из печки такого чернющего от сажи, что узнали только тогда, когда он попросил пощады. Чтоб не осквернять печь, безбожника вывели на улицу и утопили в туалете.
Среди нехристей было немало китайцев, которые добротно охраняли большевистский партком, они отстреливались до последнего патрона. Дядьки с цепями удивлялись, что эти узкоглазые отбиваются отчаяннее москалей, и устроили им настоящие погромы, убивали штакетниками, лопатами, колами.
- Так их, так, косоглазых! – подохочивал разозлить дядьков Матвей Мазур, гарцуя на сером коне, который покрылся пеной, и, наблюдая, как селяне палками колотили по головам китайцев. – А ну, сильнее, сильнее! Помакитри его!
- Смотри, как нужно воевать! – показывал пальцем Матвей на окровавленную голову, что лежала отдельно от туловища, кто-то из селян отсек ее косою.
Время гнева подходило к концу. Казаки Соколовского прятали сабли в пахвы, давая повоевать селянам. Боевое крещение не мешало никому.
Матвей поискал глазами Соколовского. Тот, сидя в седле, скручивал сигарету, тютюн рассыпался из-под пальцев, но это не получалось у него, так как дрожали руки.
Матвей, отпустив поводья, и себе достал кисет, и вдруг его серый конь так взбесился, что всадник едва не вылетел из седла. Под копыта коня покатилась еще одна голова китайца.
- Чего, дурной? – Матвей натянул поводья.
Конь попятился. Впереди стоял крестьянин с косою, только закругленное лезвие было закреплено не поперек кисеи, а стремилось вверх, как копье. Человек, который держал косу, с головы до пят был забрызган кровью, и, пьяно качаясь, водил пустыми глазами на все стороны.
– Кто там еще, подходи, - кричал он.
Матвей развернул коня и подъехал к Соколовскому.
- Видел? – спросил Матвей Соколовского, шаря себя по карманам.
- Видел, - сказал Дмитрий.
- И как?
- Их сюды никто не звал.
- Я, кажись, кисет потерял, - сказал Матвей.
- Хоть не голову, - остро посмотрел на него Дмитрий, и заметил: на безымянном пальце Матвея блестело золотое кольцо, которого раньше у него не было.
- Кисета жалко, - сказал Матвей.
22
- Там, что, тоже золото было?
- Откуда?
- Сам знаешь. Узнаю, откуда золотое кольцо на пальце, если снял у убитого, то расстреляю.
- Ну, ты, ей-бо, как бы маленький.
Дмитрий подал ему свой кисет.
- Кури.
- Нет, - обиделся Матвей. – Я вспомнил, где он у меня выпал.
- Не возвращайся.
- До дидка! – кинул Матвей и пустил коня на то место, где погубили головы китайцы.
Человека с косой там уже не было. Селяне толпами расходились по домам, как будто бы возвращались с полевых работ.
Кисета Матвей не нашел. Он стянул с пальца кольцо и опустил его в карман.
- “От ей-бо, словно маленький”, - сказал сам себе.
После похода Соколовского на Звягиль большевики поставили его в один ряд с атаманом Зеленым, Ангелом и Струком. За голову Дмитрия они обещали семь миллионов.
V
Начало августа принесло новые надежды. Объединенная с галичанами армия УНР гнала красных до Днепра. Повстанческие отряды, где имели возможность, расчищали дорогу украинскому войску.
Однажды вечером Дмитрий Соколовский вернулся со своими казаками из Макарова. Территория его атаманской власти разрослась на полторы сотни верст. Дмитрий позвал брата Василия и еще несколько учителей на ужин в свои гимназистские комнаты. Сидели как никогда, весело, допоздна.
Ночь была теплая и по августовски свежая. Его жена Надежда открыла окно, оставив занавески завешенными. Они зашевелились от дыхания ночной прохлады.
Ближе к полуночи гости разошлись. Василий задержался. Выпили еще по чарке с братом. Смотрели один другому в глаза, и молчали.
- Домой надолго? – спросил Василий.
- Не знаю, - ответил Дмитрий. – Жду распоряжения от самого...
- Петлюры? – переспросил Василий.
- От него. Начинается другая война, с ним.
Огонь в керосинке, что стояла на столе, начал оседать.
- Керосин кончается, - сказала Надежда и начала прибирать со стола.
Дмитрий отрезал кружок сырой картошки и положил сверху на выход в ламповом стекле – огонь поднялся.
В соседней комнате во сне всхлипнул сын Дмитрия Евгений. Надежда подошла к ребенку.
- Ты поставил хлопцев возле мельницы? – спросил Василий.
23
- Нет, все устали, - ответил Дмитрий. – Охрана оставлена возле Девич-горы, возле
карьера и на подступах к селу. А здесь кого нам бояться?
Он поднялся и сделал несколько шагов в сторону окна.
Вернулась Надежда, скрипнули двери, в это время зашевелились от ветра занавески.
Прозвучал на улице возле окна сухой револьверный выстрел. Влетевшая в комнату пуля попала Дмитрию в голову, он упал, даже не ойкнул.
В это время в окно влетела граната и подпрыгнула на полу. Василий, сколько было сил, толкнул Надежду к соседней комнате и сам упал лицом вниз.
Граната разорвалась, погас свет, Надежда схватила с кровати ребенка, и на ощупь бросилась к дверям. Василий перекатился в соседнюю комнату, когда через приоткрытое окно влетела еще одна граната, о стену захлопали пули.
Надежда выскочила с ребенком на веранду, и едва не налетела на черную фигуру. Это был их кум Тимош Олексеенко-Корч, крестный отец ребенка, которого она держала на руках. Надежда сперва подумала, что Тимош подоспел на помощь, но он прошептал:
- Если кому пискнешь, я твое щеня разорву на куски.
Корч растаял в темноте.
Больше никто не стрелял. У Надежды звенело в голове. Начал плакать ребенок, но она его не слышала. Земля ходуном ходила под ее ногами.
Прижимая к груди ребенка, Надежда вернулась в комнату.
Было темно и страшно. Возле мертвого Дмитрия на коленях стоял Василий.
- Митя... Митя... – прокричала Надежда.
Однако смерть мужа ударила ее в сердце. Она не могла больше ни кричать, ни позвать Василия.
Василий повернул к Надежде свое лицо, похожее на черную маску.
- Что там... на улице? – спросил Василий.
- Ничего, - только и нашла она сил ответить. О том, что она натолкнулась на веранде с Корчем, она промолчала.
VI
Надежда от страха, что может что-то случиться с ее ребенком, промолчала, не стала выдавать Тимоша, который ее запугал.
Другого убийцу звали Матвей. Он, как стало известно позже, прельстился на обещанные большевиками семь миллионов рублей, поэтому и стрелял через окно в своего батька-атамана.
Матвей был храбрый и до времени верный казак. Не одну красную душу отправил в ад. Был он из соседнего села Пилиповичи, наполовину сожженного большевиками карателями. Казалось, что после того, что делали русские с его родным селом, Матвей до смерти должен им мстить. Но нет, прельстился на деньги... Тяжело такое представить...
Дмитрий умер мгновенно: пуля попала в голову. Разрывом гранаты трижды ранило его жену Надежду, а также брата Василия.
24
В эту же ночь Василий собрал самых доверенных казаков. Оглушенные
случившимся, они не хотели верить, что атаман погиб. Сама фамилия Соколовских для них значила так много, что они тут же избрали в атаманы Василия. Был у Соколовских еще один брат, старший, Степан, но он носил рясу и саблю в руки не брал. Имел парфию в Яновке.
Собирая ночью казаков, Василий думал, что, может, услышит от них что-то особенное или сам заметит какую-нибудь хитрость, так как все похоже на измену. Только свои знали, что Дмитрий возвратился из Макаровки, распустил отряд на отдых, а сам поехал домой.
Первым явился на созыв Тимош Корч.
- Кто-то из своих предал атамана за семь миллионов, - сказал он. – Посмотрим, кого сегодня не будет на сходе, тот, вероятно, запятнал свое имя, - продолжал он, чтобы завести всех на ложный путь.
Не явился Матвей Мазур. Жил он в Пилиповичах, однако Василий послал и за ним конника, и тот не застал Матвея дома. Где он – никто не знал.
Большевики написали в “красном листке”, что Дмитрия Соколовского с его помощниками окружили в школе красноармейцы караульного батальона и бросили в окно пятнадцать бомб. Однако бандит оказался такой живучий, что пришлось достреливать. В кармане убитого нашли письмо, как будто написанное помощником Вержбицкого (выходило, что Вержбицкий был приятелем Соколовских). В письме была написана большевистская выдумка: “Не беспокойтесь, вельможный атаман Дмитрий. Скоро мы вам окажем помощь. Батька Петлюра соединился с Деникиным и генералом Щербачевым и идет на Украину. Мы еще будем пановать, как пановали при гетмане. Будьте только наготове и не сомневайтесь, а мы скоро к вам придем. До меня дошли слухи, что ваши казаки разбегаются, примите меры, чтобы все было хорошо. Уважающий вас Вержбицкий”.
Какой все же циничный и бесчестный враг пришел на наши земли. Каждое слово этой фальшивки криком кричит о лжи и фарисействе оккупантов. Красным палачам мало было убить народного героя, закидать гранатами его самого (в том числе жену и двухлетнего ребенка), им нужно было еще скомпрометировать верного сына Украины и святую идею, какой он честно служил.
Страшный в своей подлости враг надвинулся на нашу Родину! Его кровавое слово было еще враньем подбитое. Разбегались не повстанцы, а, наоборот, красные. Так как с Левобережья надвигалась на Киев Добровольческая армия генерала Деникина, а на Правобережье победу за победой добывали объединенные украинские армии УНР и галицкая.
VII
Матвей не явился и на похороны, хотя провести атамана в последний путь пришли не только все горбулевцы, но и сотни людей с окружных сел – Чайковки, Модулева, Зенькова, Корчевки...
25
Таких похорон не видели еще ни в Горбулево, ни в Радомышле, ни в Житомире.
Помимо местного батюшки Дмитрия Говьядовского, было много приезжих священников, среди них и Степан Соколовский, высокий, худой и такой же белобрысый, как все братья Соколовские.
Отпевали атамана во дворе гимназии, потом на лафете повезли на кладбище, хотя это было совсем недалеко. Процессия не вмещалась на узкой улице от гимназии до кладбища.
- “Эх, батьку-батьку”, - тяжело переживали казаки, которые шли за гробом с винтовками за плечами, женщины все плакали, но какой же он батько, когда ему двадцать четыре годочка, лежит он полностью молодой, только ветер ворошит белый волос.
Рядом с казаками шла его сестричка Александра и вела за гробом белого коня с вплетенной в серебристую гриву черной лентой.
От Девич-горы ударила пушка, затарахтели пулеметы, где-то на Бедиловце тоже началась пушечная стрельба. Лава красных из двух батальонов поперла на село. Узнав о похоронах Соколовского, большевики не могли пропустить такого удобного момента, чтобы отомстить горбулевцам за свои поражения, а заодно и захватить тело атамана. Поглумиться над мертвым телом было признаком их доблести. Восемьсот карателей открыли огонь по жалобной процессии.
Люди в панике бросились бежать. Закричали женщины, заплакали дети, белый конь рвал голову из рук Александры. Пули свистели над головами, шипели в листьях деревьев, срывали осколки досок с мельницы. Подобравши рясы, священники искали глазами, куда спрятаться. Кое-кто из людей побежал к костелу, что стоял неподалеку от кладбища через дорогу, кое-кто полез в мельницу, горбулевцы разбежались по хатам, ломая заборы и перелазы.
Атаман Василий Соколовский подал свою первую команду:
- К бою!
Вооруженные казаки развернулись в цепь. Часть их залегла во рву, тут же за кладбищем, часть побежала влево к польскому кладбищу, что располагалось за костелом, и от поля было обнесено рвом. Правое крыло развернулось за мельницей. Силы были неравны, не хватало пулеметов, однако сплошным винтовочным огнем удалось удержать натиск, пока гроб с телом атамана переложили на подводу и Василий Матияш вдвоем с Александром Кулибабой ударили по коням. Никто не видел, где они того дня прятались, ходили слухи, что их припрятал в своем карьере итальянец Лива.
Глубокой ночью атамана Дмитрия Соколовского похоронили на кладбище в соседнем селе, поэтому никто ничего не слышал, и не видел. Не было ни священников, ни вселюдья, ни лафета, покрытого ковром. Из родственников попрощался с Дмитрием только его старший брат Василий. Когда припорашивали свежую могилу бурьяном и ветками, Василий опустился в ее изголовье на одно колено и сказал:
- Прости, брат... – помолчал, потом добавил: - Будем держать Украину.
А возле горбулевского кладбища бой длился недолго. Узнав, что гроб с атаманом вывезен, казаки еще немного постреляли и рассеялись. Были, и нет.
Красные ворвались в село. Правда, нескольких убитыми занесли на руках, среди них был и комиссар Чарика-Броварский, который ухитрился поймать пулю как раз в том
26
месте, где вешают ордена. Не счастило красным командирам в Горбулево, но Чарику-
Броварскому повезло в том, что для него была уже готова могила. Когда красноармейцы пошли на кладбище копать яму для комиссара, то увидели кучу сырой земли, возле которой уже была выкопана яма. Яма предназначалась для атамана Дмитрия. В эту яму красные и бросили Чарика-Броварского с почестями, после чего расползлись по селу. Ходили по хатам со своей присказкой хозяйкам: “Жарь, сука, яишницу! Ставь на стол водку и делай вареники, твою мать! Кормила, падла, бандитов, теперь нас покорми”.
Делая вид, что ищут “бандитов”, красные шарили по каморам, в помещениях, где хранили продукты, заглядывали в скрыни и за печки, а так как не собирались ночевать в селе, то грабили все, что попадалось под руку. Хлеб, сало, полотно, курей (перья летали по всему селу), квашенину засовывали в карманы и за пазуху, рассол струйками вытекал из-под калош. От них несло таким едким смрадом, что даже коты разбегались с диким мявканьем.
- Ну, уже всяких видели, - говорили горбулевцы. - Немцев, австрияков, кадюков, а такой ненасытной саранчи еще не было.
У кого-то завалили кабана и опаливали его среди села возле пруда, куда впадала речечка Свинолужка. Там далее в сторону угла Лапаевки над Свинолужкою, в прибрежных зарослях, был замаскирован “винтовочный верстак” Соколовского. Никто никогда не ходил через эту местность, заклятая она была, водила там людей нечистая сила, ни один горбулевец блуждал ночами над Свинолужкою, и никогда это добром не заканчивалось.
Не знал этого один миловидный солдатик, который помогал опаливать кабанчика, его понесло в те густые верболазы над речечкою. Он еще не успел стать зверем, не стал справлять нужду прямо на выгоне возле пруда, как это делали другие, а решил оправиться в кустах. Затем ему захотелось пройтись берегом речки-струмочка. Шел, шел, пока не попал на вход какой-то землянки с дверью на замке. Он нюхом почуял, что тут какая-то хитрая бандитская схованка, и уже хотел позвать своих, как вдруг его позвали:
- Эй, солдатик!
Он повернулся и едва не присвистнул, за три сажени от него стояла молоденькая девушка в тоненькой летней юбке и так сладко к нему усмехалась, что можно было с ума сойти.
- Как тебя зовут? – кокетливо спросила она.
- Меня? – солдатик проглотил воздух. – Михай. А тебя?
- Догонишь, так узнаешь! – глядя ему в глаза, девушка попятилась от него на несколько шагов.
Не веря такой удаче, солдатик ступил вперед и остановился.
- Ну? Не бойся, Михаюшка! – подходила она и снова отступала на несколько шагов, и он боязливо приближался к девушке. Это уже было похоже на игру, которая только разгорается.
- Давай, родимый!..
Он первым рванулся с места, и девушка также побежала вдоль берега над речкой. Бежала она легко, то, подпуская хлопца ближе, то снова отрывалась, иногда он почти уже доставал ее рукой, но в последнюю минуту она увеличивала скорость, и он хватал в
27
пригоршню только воздух. Она бежала без обуви, а на нем тяжелые ботинки с обмотками
до колен, поэтому солдатик не мог ее быстро догнать. Перед ним мелькали ее ровные
ноги, юбка от бега подлетала вверх, открывая выше девичью забаву, солдатик от того дурнел, еще сильнее налегая на ноги, смахивая с лица горячий пот, он снова ловил в пригоршню только ветер. Когда казалось, что ему ее не догнать, девушка споткнулась и упала на растения.
Хлопец почти налетел на нее. Не веря такой удаче, он навалился на девушку, начал тыкаться засохшим ртом возле ее шеи, в волосы, щеки, в губы. Почувствовав острое, нестерпимое наслаждение, он удивился, что девушка не очень и сопротивляется, не кричит, не зовет никого на помощь. Разве что слегка дергается и прячет стиснутые губы. От сладкой потехи ему кольнуло в сердце, он даже не успел почувствовать боль, когда стальная вязальная спица, которую девушка вытащила из тугой золотой косы, вошла ему в грудь.
Он затих мгновенно, вздулся, девушка сбросила его с себя на зеленую траву. Некоторое время она смотрела на него немного удивленная, но, в общем, со спокойным лицом, ей совсем не было страшно от этого, что она впервые убила человека. Девушка еще не поверила до конца, что это так случилось. На его груди не было крови и ей казалось, что он еще может ожить, вот-вот поднимет голову, вскочит на ноги и снова бросится ее догонять. От этого ей было тревожно и немного муторно. Однако он не шевелился, не дышал, хотя и менялся в лице, но, то уже были признаки не жизни, а смерти.
Девушка посмотрела на спицу, которую держала в руке и на ней также не увидела крови, длинный стальной дротик был чистым, как будто бы им проткнули не сердце, а клубок шерсти. Однако девушка не спрятала спицу в косу. Она хотела выбросить ее в речку, но передумала, и воткнула под кору старой вербы.
VIII
Василий Соколовский мстил за брата жестоко. Через несколько дней после похорон брата Дмитрия он пошел с казаками на Радомышль, куда в это время прибыла свежая красноармейская часть для борьбы с повстанцами. Василий решил не ожидать большевиков в Горбулево, а сам пошел к ним в гости. Собрал тысячу казаков, объявил, что они теперь бригада имени Дмитрия Соколовского и должны почить батька атамана в уездном Радомышле. Такого боя город еще не знал. Соколовцы уничтожили стражу, распотрошили красноармейскую часть и перемолотили все, что несло большевиками. Кому удалось вырваться за город, там его встречали пулеметчики Тимоша Корча.
Сотни и сотни валялись на улицах, на огородах, кучами лежали в канавах. После того в Радомышле долго не слышно было людских голосов, только неспокойно завывали собаки да крякало воронье, которое черными тучами затянуло небо. Ночью кричали совы, улицами города бегала волчья стая, и шныряли голодные лисы. Разогретый удачей, Василий проветрил от большевистского смрада Потаевку, Черняхов и собрался идти на
28
Коростень, но вдруг ему сообщили, что с ним хочет встретиться Симон Петлюра. Нужно было ехать железной дорогой на Винницу. В последнюю минуту попросилась ехать с ним
сестра Александра. Она была уже не только разведчицей и связной, но показала себя в
бою. Зоркий глаз, твердая рука в стрельбе, лихо держалась в седле.
- Возьми меня за адъютанта, - сказала Александра. – Надежнее охранника тебе не сыскать.
- Ты права, - согласился Василий. – Куда я без тебя!
Ехали железной дорогой по-пански. В Житомире командир небольшого бронепоезда взял их в голубой вагон, который присоединили к бронепоезду, чтобы доехать до Винницы, до самого главного атамана. Этот вагон раньше был захвачен у чекистов, в нем сняли перегородки между купе, и получился просторный салон с мягкими плюшевыми диванами. Возле диванов стояли небольшие столы, на них вазы с цветами, печатная машинка.
Только на полу был беспорядок, разбросаны бумаги, газеты, среди которых валялся разорванный портрет человека с характерной козлиной бородкой. Александра рассмотрела, что бронированные вагоны на самом деле были товарными, но обшиты с обеих сторон стальной жестью. Стены в середине имели еще дубовые брусья и обложены мешками с песком. Оба вагона имели по четыре “Максима”. Вместе с Соколовскими в голубом вагоне ехал атаман повстанческого полка имени Симона Петлюры Тимофей Лобода со своими двумя адъютантами. Александра заметила их еще на станции, когда они подходили к перрону на тачанке с дутыми шинами, запряженной тройкой лошадей. Возле атамана сидел гармонист, правда, в вагон его не взяли. Лобода также ехал на встречу с главным атаманом.
Дорогой Лобода постоянно рассказывал Василию о своих партизанских приключениях, адъютанты только кивали головами, поглядывали на Александру. В салоне пахло парфюмом, к которому добавлялся горьковатый запах цветов астры, что стояли в вазах. Это был запах ранней осени. По прибытии на железнодорожную станцию, где находился вагон Главного Атамана С. Петлюры, первым позвали к нему Тимофея Лободу, одного, без адъютантов, а потом розовощекий старшина в длинном бархатном френче с отороченными карманами позвал атамана Соколовского. Василий попросил старшину, чтобы Александра зашла вместе с ним, и пропустил ее впереди себя. В комнате было так накурено, что у Александры защипало в глазах. Петлюра ее разочаровал. Она представляла его грозным вождем-воякой (само слово Петлюра дышало гневом), а Главный Атаман оказался почти гражданским человеком в темно-зеленом френче, на котором только нашиты два больших тризуба.
Он среднего роста, под глазами синяки от недосыпания. Лицо гладко выбритое, но белое. Между пальцами, желтыми от табака, дымила сигарета. Петлюра вышел из-за стола, поздоровался за руку с Василием, потом посмотрел на Александру и удивился ее казацкому наряду, спросил хрипловатым голосом:
- А это что за амазонка?
- Александра Соколовская, - ответил Василий. – Сестра. Воюет в нашей бригаде.
- Сколько тебе лет, детко? – спросил Петлюра.
- Семнадцать, - ответила Александра. – Будет.
29
- И за что же ты воюешь, Александра?
Она повернулась к нему боком и развернула шлык. “Смерть врагам Украины” –
прочитал громко Петлюра.
– Ну, если уже такие девушки воюют за Украину, то наша возьмет, - сказал он.
Привычным жестом Петлюра откинул назад мягкий податливый чуб, что спал ему на лоб, и попросил Соколовских сесть, а сам ходил по комнате, сложив руки за спиной. От этого Василий с Александрой почувствовали себя никак. Петлюра был немного сгорбленный, ходил, наклонившись вперед, как человек, который привык больше к сидячей работе. Хромовые чоботы рипели под его шагами. Он сказал, что склоняется перед родиной Соколовских, которая положила на жертвенник Украины уже двух атаманов. Особенно он ценит работу (так и сказал, работу) Дмитрия Соколовского, который стал среди простых народных борцов за свободу края. А поэтому он, Петлюра, считает, что Дмитрия Соколовского нужно перехоронить в Житомире с воздвижением памятника герою.
Наконец, Петлюра остановился и повернулся к Соколовским. Спросил: – Как зовут жену атамана?
Василий переглянулись с Александрой и ответили:
- Надежда... Надежда Соколовская-Круглецкая.
- Хорошо. – Петлюра отбросил назад чуб, глубоко затянулся сигаретой. – Учитывая великие заслуги атамана Соколовского перед Украиной, я назначаю его вдове Надежде пенсию в размере шестнадцать тысяч восемьсот гривен на год, начиная со дня гибели ее мужа. Украинская Народная Республика выплатит также жене героя одноразовую помощь в таком же размере.
Василий хотел, было, что-то сказать, но Петлюра его перебил:
– Кроме этого, я имею к вам, атамане, не менее серьезный вопрос.
Затем он переменил разговор на другую тему. Он сказал, что у него много хлопот с атаманщиною. Некоторые селянские ватажки больше заботятся о своих шкурных интересах, нежели об общем деле. Они требуют деньги на организацию партизанских отрядов, а получив помощь, действуют по собственному усмотрению и часто создают больше неприятностей, чем пользы. Когда начнешь противоречить таким самолюбцам и ворохотникам, то вынужден держать наготове заряженный револьвер.
Александра еще больше присмотрелась к Главному Атаману. Револьвера при нем не было. Может, он имел в виду того охранника, который находился у входа в вагон с отороченными карманами.
- А сейчас сложилось такое положение, - говорил дальше Петлюра, - когда повстанческие отряды вынуждены поддерживать нашу регулярную армию. Мы знаем, что славная задача повстанцев - это дергать большевистскую администрацию, разрушать коммуникационные дороги, чинить препятствия продовольственному грабежу, действиям войсковых частей и представителям оккупационной власти. Тем не мене, настал момент, когда лучшие повстанческие отряды должны подчиняться армии. Идем на Киев! Я вижу вашу бригаду, атамане, в составе Центральной армейской группы.
- Мы и так с самого начала подчиняемся армии УНР, - сказал Василий.
В это время приоткрылась дверь, и розовощекий адъютант с отороченными
30
карманами громко оповестил:
- Пане Главный Атамане, генерал Кравс!
Петлюра на минуту заколебался, или ему проводить Соколовских, или нет, но и
генерала Кравса держать под дверью не годится. Тем не менее, он рукой показал, чтобы гости сидели.
Вошел Кравс, командир 3-го корпуса Галицкой армии, а теперь еще и командующий Центральной армейской группы. Антон Кравс производил вид боевого генерала с твердой военной выправкой, на нем хорошо подогнанный мундир, на воротнике серебряная воинская эмблема. Седой волос его подстрижен под “ежика”, длиннообразное лицо, широкий крепкий подбородок. Если бы он сбрил свои седые усы, то со своей прической он бы смотрелся уродливым, сорокалетним мужчиной.
- Я не случайно задержал этих молодых людей, генерал, - сказал Петлюра. – Прошу знакомиться. Это атаман Соколовский, которого я хочу послать на помощь к вашим галичанам.
Пожав Василию руку, генерал Кравс выкатил глаза на Александру, от чего его длиннообразное лицо вытянулось, как у лошади.
- Хотел бы я иметь такого джуру, - сказал он Петлюре.
– Теперь это ваши подручные, - ответил Петлюра.
Кравс напомнил Главному Атаману, что левым берегом Днепра к Киеву двинулись деникинцы, что рано или поздно произойдет столкновение с белыми, а до настоящего времени не имеется плана, как с ними себя вести, что Деникин и слушать не хочет о самостоятельной Украине, поэтому союз с ним в борьбе против большевиков не возможен. И он, генерал Кравс, как командующий Центральной армейской группы, должен иметь четкие директивы. Как быть?
Петлюра прикурил очередную сигарету и, шагая по комнате, разложил все на пальцах. Во-первых, не нужно до времени встречаться с деникинцами. Во-вторых, вести переговоры, чтобы выиграть время.
- А что делать в случае лобового столкновения? - спросил Кравс.
- Предлагать деникинцам, чтобы они не занимали тех территорий, которые уже заняты нами, - сказал Петлюра.
Широкие желания Кравса привели к оскомине: в своей войсковой практике он не знал такого термина “предлагать”. Ни одна статься не предусматривала подобной нормы во взаимодействиях с врагом.
- Как это предлагать? – простодушно спросил Кравс.
Петлюра угадал, что генералу не по вкусу слово предлагать, и он специально остановился на этом слове еще раз:
- Пред-ла-гать деникинцам освободить направления, где мы проходим, чтобы не удерживать наше движение. Тем временем провести глубокую разведку и узнавать все про Добровольческую армию: в каком положении войска, какая его численность, об амуниции и тому подобное.
- А если некоторые их части нападут первые? – спросил Кравс. – Что, если мы будем ожидать склонностей от Деникина, а белые москали будут делать свое черное дело?
- Вы же, генерал, не повстанческий атаман, чтобы не понимать войсковую
31
дипломатию, - сказал Петлюра. – Во время переговоров регулярная армия не проводит боевых действий.
- Вы не знаете, с каким врагом мы имеем дело? – сказал Кравс. – Белые рано или
поздно перейдут в наступление. Как это было всегда с москалями. Один черт – красный он или белый. И те, и другие нам не обещают свободной Украины!
Петлюра долго молчал. Подошел к окну, посмотрел через стекло, дымил сигаретой. Поворачиваясь, он сказал:
- У нас есть маневр, генерал.
- Маневр? – переспросил Кравс.
- Так. Когда припрет, я пошлю на них Ангела и Зеленого.
IX
Встреча с Петлюрой подняла настроение у Василия. Вернувшись в Горбулево, он начал отмобилизовывать свою бригаду. В селе было тихо, только в Радомышле снова зашевелились большевики, но и они готовились к бегу. Под наступлением украинской армии все красные катились в направлении Киева. Стоял светлый августовский день, когда Василий пошел на соседский угол Будиловку к Максиму Бидюку. Максим чистил винтовку, в то время пока его семья хлопотало на огороде. Сидели Василий и Максим, советовались, вспоминали о Матвее Мазуре, который нигде не показывал своего носа после того, как убили Дмитрия. Может, и ему встретилось какое-то несчастье?
- Днями буду в Пилиповичах, там, может, что разнюхаю. А ты, атамане, также держи носа по ветру, так как народ сейчас пошел не верный. Ох, и не верный, - крутил головой Битюк, что аж в шее трещало.
На дороге затарахтела подвода. В хату заглянул Тимош Корч.
- Выйди, дело есть, - позвал Василия на двор.
- А тут поговорить нельзя?
- Нет, выйди. Скажешь “спасибо”.
Василий вышел. На дороге стояла подвода. Ездовой сидел впереди, еще двое курили возле воза.
- Свои хлопцы, - сказал Корч. - Один из Торчина, а двое из Головина. До нас в бригаду просятся.
Василий радостно кивнул. В его бригаду каждый день прибывали люди. И еще какие молодчаги! Василий подошел к ним. Один из них пожал Василию руку, как будто в клещи взял. Держит, смеется, не отпускает.
- Здоров будь, пане атаман!
Другой ударил Василия сзади в шею. Причем ударил гирей. Бросили шокированного Василия на воз. Ездовой лягнул батогом по коням.
Максим Битюк тоже спустя некоторое время отложил винтовку, вышел на улицу. Он увидел только тучу пыли, которая поднялась за подводою. Битюк пожал плечами и пошел в хату.
32
X
Василия завезли аж до Радомышля и передали красным. Не было времени допросить его раньше. Теперь его поставили к красной, липкой от крови стене.
- Ну, что скажешь нам напоследок, сокольчик? – не моргнув носом, спросил статный, чернобровый комиссар Скороходов, с которого портреты можно было писать, если бы не текли сопли из его носа.
- Носа утри, - сказал Василий.
Скороходов мешал ему думать. Василий хотел много чего вспомнить. Он где-то читал, что у человека, когда он умирает, перед глазами за одну минуту пробегает вся его жизнь, что он может увидеть свое прошедшее, как на ладони, и теперь он хотел вспомнить что-то очень хорошее. Про свою мать Явдоху, которая потеряла за один год троих сыновей, хотел вспомнить отца Тимофея, несчастного начальника штаба своих сыновей, хотел увидеть живого еще брата Степана, который стал священником и теперь сможет отпеть всех трех братьев вместе, но не может взять в руки саблю. Василий хотел напоследок вспомнить своих родных сестер Веру, Ганю, Устину и наименьшую Александру, которая ступила на острую, как бритва, тропу братьев. Хотел вспомнить: наилучшую в мире жену Надежду Круглецкую, когда-то Дмитриеву, а теперь... его жена, вспомнить то, что станет тайной их рода. Василий хотел увидеть малого Евгения, который никогда не узнает, что его назовут сыном Василия, а не сыном Дмитрия... Василий пытался вспомнить все про свою семью, но мешали другие мысли, которые наплывали на него - про черную измену Тимоша Корча, про Матвея Мазура, хотя Василий никогда не узнает, что именно Матвей застрелил Дмитрия, которого односельчане, как скаженного пса, когда откроется его измена, так как каждый захочет приложить свою руку для справедливого мщения. Но все это будет позже, а сейчас Василий думал о том, что они, Алексей, Дмитрий и он, очень верили людям, равняли их всех на себя, верили без осторожности, не допуская мысли, что предателей надо искать среди самых близких людей. Винтовочный ствол смотрел Василию прямо в межбровье, он хотел рассмотреть его, но не мог. Перед глазами появился белый конь, а вокруг него и вся их родня. Алексей в черной бурке и черкеске привел на отцовское подворье этого диво-коня, все его обступили, не знали, на кого сперва смотреть, или на Алексея в кавказской бурке, или на серебряного жеребца с голубыми глазами. Отец сперва смотрел на Алексея, попросил повернуться сына, чтобы лучше его рассмотреть, а мать тихонечко перекрестилась. Дмитрий взял коня за уздечку, Надежда щебетала с маленьким Евгением, хвалили коня, а Александра гладила его, заглядывала в глаза, не отходила от коня, и наконец, оказалась на нем в седле. Стремена были подогнаны не по ней, и Александра до них не доставала, но нужно иметь крылья, чтобы вскочить на такого коня, все смотрели на наездницу, а Дмитрий поймал Евгения и подал Александре, чтобы посадила малого впереди себя. Надежда хлопнула в подол, и произнесла: - Сдурел, что ли?.. Дмитрий засмеялся на все зубы: пускай привыкает.
- А как он зовется? - спросила Александра,
- Не знаю, - пожимал плечами Алексей.
33
- Пускай будет Нарцисс! – сказала она.
Грохнул выстрел, Василий упал и уже ничего не видел, но в темноте еще долго отражалось эхом это ясное “Нарцисс-цис-цис...”
Глава третья
I
Объединенному отряду атамана Артема Онищука обживаться в теплых блиндажах пришлось недолго. Против него командование Красной армии бросило в бой 216-ый полк 24-ой дивизии. Этот полк имел явный перевес в живой силе над объединенными отрядами казаков, и поэтому на совете атаманов отрядов, входящих в объединенный отряд, было решено не вступать с полком в прямые позиционные бои. Атаманы приняли решение применить тактику партизанской рейдовой войны, которая состояла в постоянном изменении места дислокации отряда. Такая тактика должна была дать возможность попробовать избежать полного уничтожения отряда.
Информацию о подготовке карательной операции против повстанцев передал в штаб повстанческого отряда Петр Корзик, один из работников милиции города Гайсин. Еще в 1917-ом году он начал работать в Гайсинской уездной милиции под руководством Анания Волынца. Петр все это время добросовестно исполнял свои обязанности по поддержанию революционного порядка в Гайсинском уезде и был оставлен на этой службе и советской властью. В то же время, в душе он искренне сочувствовал борцам за украинскую идею, а потому и не удержался, чтобы не сообщить Артему Онишуку о прибытии в город частей 216-го полка.
В эти дни уездная милиция получила оперативное распоряжение ЧК о необходимости подготовки личного состава в Гайсине, а также в окружающих селах и городах, о поддержке наступления 216-го полка на отряд Артема. Получив распоряжение от вышестоящего начальства предупредить милицию городка Гранов, Петр сел на своего коня, который был привязан около входа в помещение уездной милиции, и направился на окраину Гайсина. Там на улице Яблоневой проживала семья его родного брата Николая. Самого Николая дома не оказалось, была только его жена Анна, дородная женщина среднего возраста и роста, с ярким румянцем на щеках, которая к тому же приходилась Петру кумой по младшему сыну. На дворе возился возле инвентаря один из племянников Петра, Павел.
- Доброго дня, Анна! А где это мой непосредственный брат гуляет, что такую ладную женку оставляет в одиночестве? – осторожно обратился кротким тоном Петр к женщине, зная о ее остром языке.
- И где же он может быть, говорил, что на рыбалку идет, чтобы рыбки на ужин поймать. Но, ни в чем я ему не верю. Знаю, что он на молодиц падок, то со временем пойду и проверю, в какой пруд он свое удилище забрасывает, - также почти шутливо ответила Анна.
- Так ступай, кума, ступай и проверь, а пока насыпь мне своего вкусного борща. Как тот пес шелудивый проголодался на проклятой работе. И позови сюда Павла, помощь его мне здесь срочно понадобилась. Хочу послать его в Гранов с сообщением для тамошней милиции, - проговорил Петр.
35
Павел вошел в хату по зову матери.
- Садись сюда и послушай меня внимательно. Возьми коня и едь в городок Гранов к тамошнему начальнику милиции Грищенко, передай ему распоряжение приготовить свой отряд самообороны к возможным 8-го числа боевым действиям между повстанцами, которые находятся в Гайсинском лесу, и красными войсками. На обратном пути повернешь к лесу. Там находится отряд повстанцев под командованием Артема Онищука. Найдешь атамана и только ему одному без свидетелей передашь от меня привет. А затем перескажешь ему эту же информацию, которую ты повезешь в Гранов.
II
Вечером 7-го декабря, не ожидая нападения красных, которое должно, по информации из Гайсина, состояться завтра утром, колонна объединенного отряда отправилась в дорогу. Колонну, которая растянулась на полкилометра по дороге в направлении села Шура-Бондуровская, на прытком гнедом коне возглавлял сам атаман Артем. За ним двигались казаки его отряда, потом казаки отрядов атаманов Маруси, Винтоненко и Якубенко. В центре колонны располагался конный обоз с провиантом и пушечная батарея с боезапасом. Замыкал колонну арьергард казаков атамана Лихо. Такое расположение колонны объединенного отряда позволяло быстро в случае нападения красных развернуть оборону вокруг центрального ядра колонны, которое составлялось из обоза и пушек. Кроме того, голову колонны и ее хвост контролировали наиболее опытные в боевом деле атаманы.
III
Здесь нужно остановиться на том, что как Артем Онищук, так и атаман Лихо совсем не были “отпетыми бандитами”, или “матерыми уголовниками”, как о том распиналась на всех газетных столбцах и по всем уголкам Украины пропагандистская машина советской власти. Такая характеристика подходила, скорее всего, к красному герою-комбригу Котовскому, который в те бурные годы противостоял армии УНР и повстанцам. Он действительно в свое время был и бандитом, и “матерым уголовником”, получив за это десять лет каторги и судебный приговор к “высшей мере”.
В то же время, как Лихо, так и Артем Онищук были боевыми офицерами сначала царской, а потом армии УНР, которые прошли хорошую военную подготовку румынского фронта, а потом фронтов армии УНР. Отдельно следует заметить, что у атамана Лихо это псевдоним, а истинная его фамилия была Дорошенко. В 1919-ом году Симоном Петлюрой Дорошенко был присвоен чин подполковника армии УНР. В то время он был командиром первого Надбуженского повстанческого полка. Дорошенко был сыном священника Каменец-Подольской губернии, имел к тому времени возраст тридцать три года, знал
несколько языков. После отступления войск Директории на территорию Польши.
36
Дорошенко остался проживать в селе Четвертиновка, его тестем был бершадский священник.
В конце 1920-го года Лихо организовал повстанческий отряд из крестьян сел Четвертиновки, Гордеевки и Латнивки (теперешнего Тростянецкого района). Этот отряд по состоянию на 19-ое ноября 1920-го года состоял из тридцати бойцов. Однако уже 22-го ноября 1920-го года отряд атамана Лихо, увеличившись до четырех десятков пеших повстанцев и двадцати всадников, на 37-ой версте Христиновской железной дороги (между Белоусовской и Тростянцем) захватил большевистский поезд, который в местном лесу заготовлял дрова. Повстанцы подорвали два вагона со снарядами, забрали много оружия и боеприпасов, убили сотрудника Елизаветградского губернского ЧК, который руководил командой поезда, захватили в плен красноармейцев-новобранцев. В ответ на успешные действия повстанцев большевики в селе Летковка взяли сотню заложников, сожгли одиннадцать домов, а на село наложили контрибуцию в размере пяти миллионов карбованцев.
В конце ноября 1920-го года Лихо провел формально принудительную мобилизацию в селе Олянцы. Все мужское население села стало в ряды повстанцев, благодаря чему его отряд увеличился до четырех сотен. На то время в отряде находился даже бывший помощник начальника милиции городка Тростянец, Белявский, а также священник, который исполнял обязанности завхоза.
Отряд атамана Лихо напоминал регулярную военную часть. В нем регулярно проводились строевые занятия, жестоко соблюдалась дисциплина (казакам категорически запрещались грабежи, попойки и т. п.). За невыполнение приказа виновных наказывали шомполами, и если это было вторично, то даже расстреливали.
Почти аналогичная биография была и у атамана Артема. Артем Евгеньевич Онищук родился в 1891-ом году (по неточным данным) в селе Соколинцы, Брацлавского уезда. Родители его были малоимущими крестьянами, однако смогли обеспечить сыну возможность получить образование, достаточное для дальнейшей работы народным учителем. Артем рос умным и сообразительным мальчиком. Учась в церковно-приходской школе, он интересовался церковной службой, которая потом в дальнейшем помогла ему в армейской службе.
Окончив одногодичный педагогический курс, и получив соответствующее образование, Артем прошел испытание в совете Винницкой церковно-учительской школы, в связи с чем ему было присвоено звание учителя церковно-приходской школы. Будучи призванным перед началом войны 1914-го года в царские войска, он в 287-ом Жмеринском полку выдал себя за дьяка и правил службу в полковой церкви.
После начала империалистической войны Артем воевал на румынском фронте, где стал полным георгиевским кавалером и получил официальный чин прапорщика. Демобилизовавшись в 1917-ом году, Артем вернулся к мирной жизни, и учительствовал некоторое время на Гайсинщине. Однако уже в конце 1918-го года он, откликнувшись на призыв Анания Волынца, в ноябре того же года вступил в его отряд. А уже 19-го февраля 1919-го года становится сотником четвертой сотни 61-го полка 19-ой дивизии армии УНР.
Первым командиром этого полка, который был создан 25-го января 1919-го года на базе куреня имени Симона Петлюры, был назначен подполковник Волынец. В
37
дальнейшем Артем Онишук получил чин куренного атамана УНР (приблизительно отвечает должности командира батальона современной армии).
VI
Вернемся к событиям 7-го декабря 1920-го года, когда колонна объединенного отряда атамана Артема Онищука отправилась в свой рейд. Маршрут объединенного отряда был проложен атаманом в основном через леса Гайсинщины, начиная от села Шура-Бондуровская. Пройдя через села Верхушку, Васильевку, Вязовицу, конный отряд под вечер на следующий день 8-го декабря вышел из лесного массива возле села Бондуровка и направился уже открытой местностью в направлении сел Овраги и Хотивцы (теперь это одно село Ковалевка). Однако и красные тем временем не дремали. Их командование, получив телефонное сообщение из сел, через которые проходили повстанцы, срочно передислоцировали из Гайсина по железнодорожному пути Гайсин – Винница штабную роту 216-го полка. Одну роту по тревоге загрузили в два товарных вагона и доставили свободным локомотивом на станцию Витивцы, что находилась буквально рядом с селом Овраги. Благодаря оперативной доставке, эта рота успела занять оборону перед селом на пути движения колонны отряда Артема еще до вечера 8-го декабря.
Когда разъезд отряда Артема приблизился к окраинам села Овраги, то он был обстрелян густым градом пуль. Потеряв одного из казаков, разъезд повернул назад и спешился в ложбине перед селом. Позиция красных была довольно выгодной, они заняли оборону по краю сельского выгона. Рядом с выгоном проходила полевая дорога, которая вела из Бондуровки в село Овраги.
Командир разъезда сразу же послал одного казака с донесением к атаману. Вокруг уже стемнело, хотя было только пять часов пополудни. Дорогу к селу и окружающие поля декабрьская погода припорошила и подморозила легким снеговым покровом. Зима явным образом вступала в свои безоговорочные права, не оставляя погоде ни одного теплого дня.
Услышав частые выстрелы, колонна остановилась на расстоянии одного километра от села в небольшом лесочке. В скором времени, один за другим, помчали гонцы к атаманам отрядов, входящих в объединенный отряд с приглашением срочно прибыть на совещание к главному атаману.
Артем, спешившись со своего коня, присел на край одной из обозных телег, ожидая приближения атаманов. Ему было понятно, что на этот раз боя избежать не удастся. С одной стороны впереди колонны расположился заслон красных, с другой стороны позади колонны на его пятки наступает 216-ый полк красных. Выхода практически не было, нужно было вступать в бой.
Все атаманы собрались возле телег за каких-то полчаса. Первой прискакала Маруся, потом Винтоненко с Якубенко. Последним прибыл атаман Лихо. Спешившись, все атаманы расположились на обозной телеге рядом с Артемом. Первый вопрос задала, как это, вероятно, и должно было быть, атаманша Маруся.
- Артем, мы слышали выстрелы со стороны села, что там произошло? – глотая
38
слова от поспешности и волнения, проговорила юная атаманша.
- А произошло то, что и должно было произойти, только вот не очень ожидаемо. Я пока что не знаю, кто нам преградил путь. Вполне возможно, что это местный милицейский отряд. Однако по обильности обстрела моего передового отряда, похоже на то, что там довольно значительное количество стрелков, - немного подумав, ответил Артем.
- Думаю, что нам нужно попробовать провести хорошую разведку, прежде чем принять какие-то меры к бою. А без боя тоже нельзя, сзади на пятки наступает 216-ый полк, который идет за нами из-под самого Гайсина, - продолжал свою мысль Артем.
Следующее слово взял атаман Лихо:
- Панове атаманы, я придерживаюсь мысли Артема, что нам придется вступать в бой, потому что иначе останемся и без обоза с провиантом, и без пушек. Однако нужно срочно провести тщательную разведку и узнать, кто перед нами. Я предлагаю разыскать в отрядах и послать в разведку тех, кто родился или жил в этом селе, или в селе Хвостивцы, которое находится рядом.
Здесь в свою очередь подал голос атаман Винтоненко:
- А знаете, у меня есть в отряде один казак по имени Охрим. Так он именно из села Овраги и есть.
Срочно послали посыльного за Охримом, который прибыл через десять минут.
- Друже, Охрим! Мы тебя позвали, потому что ты из села Овраги, которое перед нами. Ты, наверное, хорошо знаешь, как можно тихо проникнуть в село и узнать, кто нам перекрыл путь. Но нужно разведку провести очень осторожно и очень быстро, потому что позади нас полк красных.
Хмурый Охрим, который переживал из-за того, почему это он срочно понадобился атаманам, теперь повеселел и бодро ответил:
- Не сомневайтесь, панове атаманы, здесь у меня много родственников и побратимов, через час-два будем все знать.
- Хорошо, Охрим, ты же понимаешь, как мы на тебя полагаемся, - сказал Артем и добавил: - С Богом!
Охрим исчез в сумерках. Атаманы тем временем разъехались по своим отрядам, проинформировали там старшин о своих планах, распорядились приготовиться к бою, и спустя некоторое время вернулись к предыдущему месту сбора. Охрим прибыл даже чуть раньше назначенного времени. Отдышавшись, он начал свой рассказ:
- Панове атаманы, к сожалению, перед нами не просто милицейская застава. Милиция находится рядом в селе Хвостивцах в доме сельского совета. Их там шестеро, что тоже достаточно для того, чтобы нас хорошо пострелять, когда мы будем проходить через село. А перед нами регулярная рота 216-го полка, которая была сегодня срочно переброшена из-под Гайсина, чтобы организовать нам здесь засаду. И они это успели сделать. В роте, по оценкам моих односельчан, около сотни бойцов, и они могут нанести нам ощутимые потери, особенно днем.
Услышав повествование Охрима, атаманы на некоторое время притихли. Каждый думал над тем, что можно сделать для того, чтобы потери объединенного отряда были по
возможности минимальными. Первой, как всегда отозвалась Маруся:
39
- Охрим, а по твоему мнению, что нам нужно было бы сделать?
Охрим немного помолчал, почесал затылок узловатыми крестьянскими пальцами, а потом потихоньку произнес:
- Я, конечно, только простой казак, но на месте панов атаманов не ждал бы утра, а напал бы на тех краснозадых прямо сегодня вечером, когда они этого не очень ожидают.
- Хорошо, Охрим, благодарим за разведку и твой совет. Теперь ты можешь пока что быть свободным, но находись где-то недалеко, потому что скоро нам можешь понадобиться, - произнес Артем.
На время над обозной телегой воцарилась хрупкая тишина. Все призадумались над планом боя. Затем слово взял атаман Лихо:
- Панове, думаю, Охрим прав, надо использовать фактор неожиданности. Напасть на красных нужно, когда стемнеет, обойдя их потихоньку со всех сторон. И начать баталию нужно только после того, как их обстреляет наша батарея. Хотя оно и будет почти темно, но мы имеем хороших пушкарей, и, думаю, даже в это время они красных шрапнелью плотно накроют, - атаман Лихо замолк и вопросительно посмотрел на Артема.
Несмотря на то, что Лихо и был выше по должности и званию в армии УНР, однако имел значительно меньший боевой опят и не принимал участия в ноябрьском походе Действующей армии УНР 1920-го года.
- Я тоже считаю, панове атаманы, что именно так нужно и сделать. Но одновременно необходимо нейтрализовать милицейскую заставу в Хвостивцах, потому что они, услышав бой, устроят нам затем хорошую засаду, - подвел итоги по разработке плана действий главный атаман объединенного отряда.
- Пошлем в Хвостивцы Охрима с десятком пеших казаков из моего отряда, - добавил свое предложение к общему плану и Винтоненко.
По завершении совета атаманы решили, что окружение роты красных со стороны поля берет на себя атаман Лихо, в отряде которого есть много пеших казаков. А атаманы Артем и Маруся со своими конными казаками нападут на красных со стороны дороги одновременно с казаками Лихо. Нападение состоится сразу же по завершении шестнадцатого выстрела батареи из восьми пушек. Пушки откроют огонь ровно в десять часов вечера, тогда, когда все бойцы выйдут на исходные позиции.
Атаманы разъехались по своим отрядам готовить казаков к бою.
Атаманша Маруся, едя со своею старшиною, строила планы своего разговора с ними, о том, что это у них будет нелегкий бой, которым она будет руководить, став атаманшей.
Глава четвертая
I
До этого боя Маруся уже прожила целую вечность. Когда Василий не вернулся из соседней Будиловки на ночь, то утром его жена Надежда забила тревогу. Максим Бидюк сообщил, что он еще вчера уехал с Тимошем Корч. Тимоша Корч найти не удалось, расспросить у него, куда он увез Василия, не получилось.
Только в конце недели пошли слухи на селе, что Василия похитили красные, и он находится в Радомышле. Потом поползли слухи, что красные его расстреляли.
Казаки собрались возле Девич-горы. Приехали конные, пришли пешие. Глаза у каждого горели злым огнем. Не было Матвея Мазура и Тимоша Корч. Максим Бидюк упал на колени: “Братцы, не знал я! Убейте меня, зарежьте меня, но я не знал, зачем Корч приехал”.
- Разберемся, - сказал Александр Кулибаба, - не спрячется никто.
Стали казаки решать, кого избрать атаманом. Они уже никому не верили, особенно после того, как все трое Соколовских погибли через измену. Казаки знали Александру, как она пришла к ним из гимназии. Была связной, ходила в разведку, участвовала в боях. Многих казаков Александра сагитировала в отряд. К тому же фамилия Соколовских для них была лозунгом. Поэтому они долго не думали: нет Соколовского, то пускай Соколовская будет. Поэтому послышались выкрики: “Атаманом хотим Соколовскую! Соколовскую! Больше не хотим никого!”. Ей шел тогда шестнадцатый год.
Белый конь перебирал ногами, раздувал ноздри. На нем сидел уже четвертый атаман. Александра приструнила Нарцисса и выскочила на склон Девич-горы, чтобы все ее видели хорошо и слышали. Поблагодарила за доверие и сказала, что с ней пускай останутся только те, кто не собирается держаться домашней печки.
- Мы не только будем охранять свои села, лес и себя в нем, - сказала она. – Мы пойдем на великую войну за Украину. Пойдем на Киев! Если кому-то это далеко, пускай чешет мотню на печи, - шутливо промолвила она, и казачня, которая недавно кипела гневом, покатилась со смеху.
- Кто хочет чесать мотню, пускай выйдет вперед! – крикнул высокий, как копна, Никита Шульга.
Не вышел никто.
- И еще одно, - наконец сказала девушка. – Отныне называйте меня Марусею!
- Почему Маруся? – спросил кто-то из казаков.
- Вам не нравится?
- Имя красивое, а что в нем?
- Это женское имя, - сказала она.
Она имела в виду значение имени Мариамна, от которого происходит Мария, и ее украинский вариант Маруся. Мариамна – та, что делает все наоборот, наперекор.
41
II
Еще в ходе встречи брата Василия и ее с Петлюрой в Виннице было договорено, что отряд Соколовского обязан идти на помощь к галичанам. Вернувшись домой, атаман Василий начал отмобилизовывать свою бригаду для похода на соединение с войсками Западной Украины, но объявить ее не успел - был убит в Радомышле. Эту задачу должна была исполнить атаманша Маруся – сестра Василия.
III
16-го июля 1919-го года, Галицкая армия после тяжелых боев с поляками перешла Збруч и объединилась с Действующей армией УНР. Оба войска оказались на мизерном участке Великой Украины в так называемом Каменец-Подольском мешке. На западе их подпирали поляки, с севера, востока и юга наседали большевики. Изморенные непрекращающимися боями, и галичане, и надднепровцы были в катастрофическом положении, у них не хватало оружия, боеприпасов, амуниции, одежды, обуви, продуктов, лекарств... Однако соединение двух армий, встреча родных братьев, которые до этого времени не видели один другого, придало им силы и духа, а также веры в победу. Объединенная Украинская армия прорвала Каменец-Подольский мешок, погнала красных по всему фронту, получив стратегические города и железнодорожные станции: Проскуров, Жмеринку, Винницу, Бердичев.
Штаб Главного Атамана Симона Петлюры выработал план похода большими силами на Киев, а меньшими – на Одессу, к Черному морю. С этой целью объединенную армию разделили на три группы. Центральная армейская группа, которая объединяла два галицких корпуса и Запорожский корпус армии УНР под общим командованием галицкого генерала Антона Кравса, была направлена на Киев.
Августовское наступление на Киев было быстрым и успешным, особенно там, где дорогу украинскому войску заблаговременно обеспечивали повстанческие отряды. Иногда повстанцы сами присоединялись к частям регулярной армии.
IV
Один из куренных Центральной армейской группы сотник Василий Бачинский стоял за десять верст от Житомира в селе Вереси, когда через связного пришел приказ, что завтра, в воскресенье, они должны принять атамана Соколовского и согласовать с ним совместные действия, которые касаются дальнейшего наступления в направлении Фастова. Этот повстанческий отряд берется обеспечить правое крыло бригады, то есть с их куренем будут держать тесную связь.
Сотник Василий Бачинский позвал поручика Мирона Горняка на короткий совет и
42
тот увидел, что сотник занервничал вконец.
- Что будем делать? – растерянно спросил сотник Мирона. - Меня тошнит от этих партизан. Придумайте что-нибудь, пане поручик.
- А что здесь придумаешь? – пожал плечами Горняк. – Приказ есть приказ.
- Вы забыли атамана Шулику? – с укором посмотрел на него сотник Бачинский, как будто бы Горняк видел такое распоряжение.
- Но еще бы, - сказал Мирон. – Отряд из одних полковников.
Им хорошо запомнился тот первый опыт “кооперации” с повстанцами. Когда готовили удар на Жмеринку, тогда тоже пришла команда связаться с атаманом Шуликою, отряд которого стоял в соседнем селе. Тогда сотник Бачинский, идя искать атамана, взял с собою поручика Горняка, и они быстро нашли повстанцев. Те находились возле сахарного завода и грузили мешки на возы. Этот отряд сразу показался им подозрительным.
- Гей, хлопцы! – позвал сотник Бачинский. – А где ваш атаман?
На что один человек с взъерошенными и черными волосами, как у цыгана, ответил им, что у батьки-атамана нет времени с нами травить языками, он сейчас воюет с большевиками.
- Где? – спросил сотник.
- Он там за сахарным заводом! – махнул рукою “цыган”, чтобы они отстали, и в это время на той стороне сахарного завода заработал пулемет. Одна очередь, другая, третья, но никто из повстанцев не обратил на это никакого внимания, никакого тебе страха, они продолжали дальше носить тяжелые мешки.
Бачинский с Горняком, крадучись под стенами, прошли на другую сторону сахарного завода, откуда слышалась стрельба. Опа! Здоровый казарлюга в темно-красном жупане примостился на дереве и стрелял вдаль, где не было видно ни одной души, ни мишени.
Сотник Бачинский поднес к глазам бинокль.
- Ничего не понимаю, никого нет, - сказал он. - Может, ему те большевики кажутся?
Они подошли ближе. Бачинский подождал, пока атаман Шулика выпустит еще одну очередь, тогда громко кашлянул. Неохотно атаман обернулся, посмотрел на визитеров, как пес на муку, потом слез с дерева, и теперь уже они смотрели на Шулику такими глазами, как будто он спустился к ним не с дерева, а слез по лестнице с неба. Вишневый жупан на Шулике был пошит из такого материала, которым обшивают сидения вагонов первого класса и который батько-атаман или его хлопцы, очевидно, содрали с дивана вагона-салона. К этому жупану полностью шли широченные синие шаровары с таким низким напуском по голенищам, что из-под калош выглядывали только загнутые носки сапог, отчего казалось, что батько-атаман не идет, а прыгает по земле. На поясе у Шулика красовалась короткая кривая сабля-ятаган, а также маузер в деревянной кобуре, бомба и люлька.
- Много басурман положил?- спросил Бачинский.
- Отсюда не видно, - важно ответил Шулика. – А пулемет хороший. Только тяга слабенькая.
- Так, - согласился сотник. – Тяга слабенькая, после хорошей работы трескается. –
43
Но чтобы не терять времени, нам нужно поговорить о приказе штаба корпуса о совместном наступлении.
Тот с прижмуренным одним глазом обмерял с ног до головы сотника Бачинского, потом посмотрел на поручика Горняка и с какой-то дурковатой радости выкрикнул:
- А я не пойду!
- Как так - не пойдете?
- А так, не пойду – и все! Потому что вы австрияки!
Бачинский с Горняком переглянулись: такое они слышали не впервые. Когда перешли Збруч, и усталые и голодные маршировали селами, люди, выглядывавшие из-за заборов, называли их австрияками, немцами и даже англичанами. И ни до кого нельзя было подступить, каждый двор являл собою отдельную республику, какую охранял пес на длинной веревке, а ее президентом был сердитый и хитрый дядько в длинной российской шинели. Не обращая внимания на летний жар, здесь все мужики ходили в шинелях, киреях, длинных свитах или даже в кожушках. Они исподлобья смотрели на запорошенных стрельцов, которые шли и шли нескончаемой колонной, наклонившихся под весом наплечников. Их одежда была серой от пыли, запыленные лица заливали грязные потоки пота.
Вслед за пехотою ехали пушкари, которые сидели на лафетах и тряслись на выбоинах вместе с пушками, запряженных в две пары лошадей. Колонна оставляла на дороге глубокие колеи. Толстые стволы с черными жерлами, темно-бурые стальные щиты, испещренные пуляли и осколками, подобно тифу, не радовали селян.
Над заборами свисали ветки спелых вишен, каждый стрелец тянулся к ним глазами. (Мирону казалось, что внутри него все сгорело), но никто не сорвал и ягодки. Они, галичане, лучше тех дядьков в шинелях знали, что такое собственность. Они были самой дисциплинированной армией в мире. Самой молодой и самой дисциплинированной. Пройдя сотни верст Великою Украиною, они не реквизировали ни одной крошки хлеба, а когда настала уборочная, пошли между боями к людям помогать собирать урожай за пятый сноп. Были даже уборочные сотни. Тогда все и увидели, кто такие галичане, каков их разговор и честь.
- Куда идете? – спрашивали их люди.
И ответ всегда был один:
- Идем на Львов через Киев.
Бачинский не предполагал, что атаман обзовет их австрияками, и это было негоже услышать такое от атамана, с которым вместе идти в бой. Тут как раз время было послать Шулику до дидька, но куренной Бачинский имел приказ, и к тому же он был самым дисциплинированным сотником самой дисциплинированной армии. Поэтому ему объяснили красиво:
- Мы не австрияки, пан атаман, мы галичане...
- Знаю, - сказал Шулика. – Но порядки у вас, как у тех австрияк. После боя вы не разрешаете делить ясырь.
- Какой ясырь?
- Ну, добычу, - не моргнув глазом, пояснил Шулика. – Должна же казачня чем-то поживиться после боя? В противном случае, какой интерес подставлять лбы под пули?
44
Бачинский не знал, что на это ответить, его уже трясло от такого разговора и, придя в себя, он резко повысил голос:
- Я пришел к вам не торговаться!
- А я вам ничего и не продаю, - сердито ответил Шулика. – Идите, откуда пришли! Пока я добрый.
Был момент развернуться и уйти, однако уже нашла коса на камень. Сотник Бачинский вмиг принял строевую стойку и суровым командирским голосом сказал, что отказ от выполнения приказа карается по всем законам военного времени, поэтому он, атаман Шулика, станет перед полевым судом.
Шулика напрягся, и, обдумав угрозу сотника, заревел на всю глотку:
- “Полковники”, ко мне!
В один миг возле них оказалось несколько боевиков из его отряда. Удивительно было, как они быстро покидали мешки и оказались здесь. Курки подняты, револьверы сняты с предохранителя, ждали приказа батька.
Бачинский с Горняком также потянулись к кобуре, но тут Шулика и сам принял воинскую позу, вытянулся, расправив плечи, распустил свои усы и сказал атаманским голосом:
- Панове “полковники”! Пришел приказ от наивысшего командования ударить по большевикам вместе с галичанами. Как вы, “полковники”, на это смотрите?
- Как скажешь, батько! – хором ответили “полковники”.
- А как ваша воля? – спросил их Шулика.
- Наших голов много, а твоя, батьку, одна разумная, – снова хором проговорили “полковники”. – Прикажешь идти, так и пойдем! Нам то что?
- На том и решили! – Шулика довольно посмотрел на Бачинского. – Я выставляю две сотни казаков. Когда выступаем?
И когда дело дошло до боя в наступлении, повстанцы вначале стреляли во все, что только можно стрелять, палили из винтовок, револьверов, пулеметов. Галичане только удивлялись, откуда у них так много боеприпасов.
И вдруг там, где был отряд Шулики, настала тишина. Чтобы понять, что это за партизанская хитрость, Бачинский послал узнать Горняка, но тот не нашел повстанцев. Отряд Шулики оставил позиции. На счастье, помощь куреню Бачинского оказала повстанческая дивизия Юрка Тютюнника. Вместе они взяли Жмеринку.
V
Из куреня Бачинского увидели тучу пыли, которая приближалась в их сторону, а потом из той тучи выскользнуло несколько верховых. Это был хорошо снаряженный разъезд атамана Соколовского, отряд которого они ожидали. Впереди, вероятно, ехал сам атаман. Белый конь, откинув голову в сторону, шел такой легкой грациозной рысью, что всадник то выныривал, то как будто тонул за его гривою. Правда, тот всадник был слишком небольшой для атамана. А то, что они увидели через минуту, ошеломило не только поручика Горняка, он и всех остальных, находящихся в штабе куреня.
45
Было воскресенье, на паперти возле Покровской церкви в селе Вереси собралось много людей, своих и чужих, своими считались и стрельцы-галичане, которые также поприходили на службу Божью (имели своего капеляна и прилежно тянулись к церкви). После службы в церкви прихожане расходиться не спешили, собирались толпами на паперти, высматривали девушек, шутили, и достоялись до того, что тоже увидели атаманский разъезд. И когда белый конь с отливом серебра стал на “дыбы”, как будто бы приветствуя всех красиво выгнутыми передними ногами, тогда ни у одного стрельца екнуло сердце. Кто-то из бедовых даже свистнул, у кого-то обвисла нижняя губа, сотник Бачинский потянул себя за усы, а поручик Горняк только сказал:
- Ну, начинается.
Но не конь их ошеломил, хотя было чему удивляться, серебреный жеребец-араб имел красивые глаза, и дышал змеиным огнем, раздувая розовые аксамитовые ноздри. Однако ошеломил их всадник на этом коне, этот всадник была девушка с золотой косой, что свисала налево из-под казацкой смушевой шапки. Одета была как мужчина в полотняные штаны, шевровые сапоги, тугую домотканую сорочку, перевязанную кожаным ремнем, на котором плотно сидела кобура с револьвером. За плечами у девушки был короткий австрийский карабин, ремень которого накрест перевязывал ее спереди, с верхушки серой шапки конусом свисал красивый шлык и когда конь, еще теплый от бега, крутился на месте, мелко перебирая ровными ногами (может, всадник специально его развернул), Мирон прочитал на шлыке лозунг, написанный синими чернилами: “Смерть врагам Украины!”.
- Здоровы были, казаки! – громко приветствовала девушка, на что стрельцы загудели вразнобой, каждый по-своему:
- Здорова будь! Слава Иисусу! “С воскресеньем!” – а Петро Гультайчук даже крикнул: - Ура!
Настала краткая тишина. От разогретых на рысях коней пахло потом и молодой травой – вероятно, недавно паслись.
- Не нужно “Ура!” – сказала девушка. – Так в бою мы перепутаем вас с москалями. Как до этого дойдет, кричите “слава!”.
Остальные наездники также были на хороших конях. Одетые кто в чем, от светло-зеленого френча английского кроя до серой свитки, кто в папахе, кто без головного убора, но все веселые и усмехающиеся, только зубы блестели на загоревших от солнца лицах. Отныне Мирон Горняк всегда будет удивляться их веселости, так как эти хлопцы будут воевать, как будто играючи, весело будут идти в бой, и даже умирать будут весело.
Куренной Бачинский обвел глазами бравое товарищество, ища, кто из них атаман, но девушка, угадав его намерение, сказала:
- Я за атамана.
Все уставились глазами на нее, снова увидели это совсем юное лицо с маленькими веснушками на прямом носу, с полными губами, в углу которых виднелась родинка-мушка. Ее сине-серые глаза казались очень большими. Девушка соскочила с коня, и теперь было видно, что она небольшого роста, зато прямая и инстинктивно тянулась вверх, чтобы казаться выше. Здесь же спешился и наездник в бело-зеленом френче,
перехватил уже поводья, отступил с конем в сторону, и на его вытянутом лице замерла вся
46
праздность момента.
Перекинув карабин из-за спины на плечо, девушка стала перед сотником Бачинским.
- Меня зовут Маруся.
Она немного не выговаривала букву “р” и от этого казалась совсем подростком.
- Хорошо, - сказал Бачинский. – А как зовут парня?
- Василь Матияш, - глянула она на казака, который взял у нее поводья. – Он мой адъютант.
- Это тоже хорошо. Только я спрашивал про коня, - сказал Бачинский.
Кое-кто засмеялся, кто-то прыснул в кулак, чтобы не обидеть адъютанта, а один носатый наездник заржал, как жеребец. Остальные засмеялись над носатым, а он, чтобы больше не обращать на себя внимания, достал из кармана большой помятый платок и так звучно высморкался, что кони насторожили уши. Казаки закачались в седлах от смеха.
Серебристый конь с голубыми глазами тоже весело фыркнул.
- Нарцисс, - сказала Маруся. – Его зовут Нарцисс.
Мирон Горняк почувствовал, что у него слегка закружилась голова. Он почувствовал, как скулит ветер в соснах. Вереси располагались прямо возле леса, и высокие сосны подходили почти к церкви. День был безветренный, и не шевелилась ни одна ветка, поэтому Мирон хорошо слышал шум в зеленых вершинах. Как будто бы там тревожно дышало какое-то большое невидимое животное.
Из церкви вышел священник. Он посмотрел в их сторону и, вероятно, узнал Марусю, так как помахал ей рукой.
Василий Бачинский снова повел глазами по наездникам.
- А где же атаман Соколовский?
- Нет его, - сказала Маруся.
- Как это нет? Я должен говорить только с ним.
- Это невозможно.
- Почему?
- Он погиб.
- Погиб?.. – переспросил Бачинский. – Как?
Маруся не ответила. Она немного помолчала, потом, глядя куда-то на верхушки сосен, сказала:
- Он был моим братом. Теперь я за него.
VI
Маруся сказала, что для похода на Киев она может выставить тысячу казаков – 300 конных и 700 пеших.
- Так у вас целая бригада? – удивился Василь Бачинский.
- Бригада имени Дмитрия Соколовского, - сказала Маруся, – имеет пулеметы и батарею пушек.
Она сидела в штабе, который размещался в хате того священника, что махал
47
Марусе рукою. Еще подошли старшины 1-го, 2-го и 3-го куреней – поручик Антон
Тарковский, сотник Осип Станимир и поручик Данило Бизан. Старшины слушали Марусю, время от времени переглядываясь между собой, и поднимали вверх брови. Их тешили 300 конных, так как у галичан с конницей было плохо, и меньше радовали 700 пеших. Они уже немного видели повстанцев, которые воевали не хуже вышколенных вояк, но не любившие действовать вместе с регулярными частями. Особенно, когда бои разворачивались вдоль железных дорог, и нужно было быстро садиться в вагоны. Повстанцы не желали отрываться от своих гнезд.
- Вы еще не знаете нашу пехоту, - сказала Маруся. – Мои казаки, когда разуются, то бегут собачьей рысью так быстро, как кони. А кто не успевает, то хватается за стремена наездника и мчится рядом с ним.
Старшины снова переглянулись и еще выше вскинули брови.
- Не верите? - Маруся сузила свои восточные, как будто немного опухшие глаза, и посмотрела на поручика Горняка. – А у вас есть казаки, которые воюют босые.
- Характерник? – спросил Данило Бизан.
- Колдун, - сказала Маруся. В ее взгляде пробежал такой загадочный блеск, как будто бы она и сама была колдуньей.
“Может поэтому Маруся и стала атаманом”, - подумал Мирон Горняк. Как иначе объяснить, что под силу этой девушке стало 1000 казаков? Хотя чему тут удивляться? Он, поручик Горняк, тоже подчинился бы ей с удовольствием.
- А ваши пушкари такие же быстрые? – поинтересовался Данило Бизан.
Маруся уловила его иронию, но не отнеслась к ней серьезно.
- Имеем две полевые трехдюймовые пушки. И две гаубицы, только что вытащены из Тетерева.
- Из речки? – удивился Данило Бизан.
- А что? Смазанные пушки хорошо сохраняются в воде. А быстрые ли наши артиллеристы? Увидите. Когда летят через поле, то пушки прыгают, как лягушки.
- И метко бьют? – допытывался Бизан.
- Еще как! Но главное не в том, куда попадают пушки.
- А в чем?
- В том, что они поднимают дух казаков.
- И пугают врага, - добавил поручик Тарковский.
- Попал, не попал, а страх нагнал.
- Златоглавый Киев не стоит обстреливать из пушек, - сказал Данило Бизан. – Не надо разрушать храм, даже если там прячется враг.
В походе на Киев галичане увидели нечто поприятнее. Взять столицу для них значило более всякого триумфа. Взятие Киева для них означало возвращение веры, а, может, и самого Бога.
- Нет, - сказала Маруся. – Вы ошибаетесь.
- В чем? – спросил Данило Бизан.
- Врага нужно уничтожать везде. Руины храма иногда святее, чем его название.
- Перебью ваш разговор, - встрял в разговор старшина 2-го куреня сотник Станимир, коснувшись рукой своего правого уса. – А сколько вам, ясна пани, лет?
48
- Двадцать, - не моргнув глазом, сказала Маруся.
Старшина переглянулся с другими старшинами, повел бровями.
- А казалось, что вы моложе! – продолжил сотник Станимир.
- Я родилась на молодой месяц.
“Может, на солнце, - подумал Мирон Горняк. - Только молодое весеннее солнце могло подарить такую золотую косу. И веснушки, и родинки над углом губ, и магический блеск глаз. Не колдовской, а сине-горячий тревожный блеск”.
- Давайте к делу, панове! – сказала Маруся. – Мы же не на праздник идем в Киев? Правда?
В это же время, когда Василь Бачинский развернул на столе карту, прискакал связной и передал новый приказ корпусного начальства штаба атамана Лобковича. Галичане должны на рассвете собраться в Житомире и железной дорогой двинуться на Киев через Козятин. Марусе разрешалось присоединиться к ним возле Фастова, и то только конным отрядом.
- Марусе... разрешается, – скептически усмехнулся поручик Горняк. – У них что-то семь пятниц на неделю.
Марусю приказ не смутил.
- Мы там будем быстрее вас, - сказала она и, стукнув шпорами, поднялась из-за стола.
Глава пятая
I
Возле Фастова курень сотника Бачинского попал в такое окружение, что казалось, ему пришел конец.
Вначале все складывалось наилучшим образом, но после артиллерийского обстрела вражеских позиций галичане пошли в наступление и возле Трилесов смяли красную лаву, принудив их к отступлению. Разогнанный враг, беспорядочно отстреливаясь, бежал вдоль железной дороги. Подогретые успехом, стрельцы, сколько было духа, бросились вперед, но тут из-за насыпи выскочила красная конница и с диким гиканьем начал окружать их с тыла.
Бачинский почувствовал, как у него внутри что-то оторвалось. Замешательство охватило старшин, стрельцов, Мирон Горняк старался вспомнить команду, какую подают в моменты такого смертельного окружения, но на мысль всплыло только “Отче наш...”
- Пулеметы! – раскатисто, изо всех сил закричал присутствующим старшина 2-го куреня сотник Станимир. – Пулеметы к бою!
Команда покатилась от сотни к сотне. Широко растянутая полем команда, заставляла стрельцов собираться в толпы под прикрытием пулеметов. Стрельцы на ходу насаживали на стволы штыки.
Первые конники на правом крыле врезались в галицкие ряды, несколько стрельцов упало под саблями красных. Застрочили пулеметы, прогремели винтовочные выстрелы, дико заржали кони. Густой туманный воздух запах смертью. Нервная дрожь пробежала по телу Мирона, мгновенно он увидел всю свою сотню. Лица стрельцов смешались, Мирон видел такие лица только под Янчином, когда польский генерал Галер бросил против галичан армию из шести дивизий вооруженных до зубов французов. Это были лица тех, которые безоглядно шли на смерть, и каждый думал только о том, как продать свою жизнь подороже.
- Пускай будет воля Твоя... – Мирон с трудом сдержал нервное дрожание, которое, собралось под сердцем в тугой клубок.
Ему казалось, что каждый стрелец что-то кричит, но за громкой стрельбой ничего не было слышно. Он поймал только голос Петра Гультайчука, который рядом строчил из пулемета, напевая песенку, услышанную у кого-то уже на великой Украине... “Бабуся родненькая, ты всегда помогаешь, какая же у меня беда, ты, может, узнаешь!”, - спокойно, без надрыва, пел Гультайчук, аккомпанируя себе на пулемете веселую песенку смерти. Под эту песенку уже не один кавалерист завис на коне вниз головой, которого поразила пулеметная очередь. Другие конники падали вместе с лошадями, красиво ложились справа от своего четвероногого друга, обняв его за шею.
Упал окровавленный заряжающий пулемета Юрко Рабенчук, удивительно схватился за грудь рядом лежавший на земле казак Зеник Богуш, лицо которого перекосилось. Замолчал пулемет Гультайчука, так как нагрелся лафет по-страшному.
50
Петро Гультайчук рассердился и плюнул на лафет, и тот зашипел.
- И прости нам наши грехи... – произнес он.
На горизонте появилась еще одна туча конников, и также помчалась прямо на галичан. “Это все”, - с каким-то удивительным спокойствием подумал Мирон, ища глазами Бачинского. Тот стоял, широко расставив ноги, и оттого казался низким. Из его разорванного выше локтя рукава текла кровь. Василь виновато усмехнулся в покрасневшие усы – видимо, касался их окровавленной рукой. Они вместе воюют уже третий год. Познакомились в российском лагере для военнопленных под Пермью, оттуда вместе сбежали, когда в России началась революция, и с тех пор не расставались. Сперва подались в Киев, где начиналась война за Украину, и попали в такой революционный водоворот, что стыдно вспоминать. Вместе освобождали от московского ярма Киев, и после полгода митинговали на улицах. Долго ожидали универсалы об автономии Галиции, а когда, наконец, Центральная Рада согласились объявить независимость Галиции, то уже московско-большевистская орда стояла возле ворот. Василия с Мироном призвали в армию и определили в пушечную полбатарею поручика Яремы, и в конце января их бросили против красных под Полтаву, а через два дня пришел приказ возвращаться в угрожаемый большевиками Киев. После нескольких боев за город Киев украинское войско отступило на Житомир и дальше на Запад. Василь с Мироном доехали на бронепоезде до Проскурова, оттуда добрались до Подволоченка, и там, в родной Галичине, снова вернулись на свой круг, то есть попали в австрийские окопы. Они вместе прошли итальянский фронт, потом польский и, наконец, вынуждены были пройти этот, большевистский, последний, который вел их через Великую Украину на Киев, так как им было прописано сверху, что до вольного Львова вы, хлопцы, дойдете только через Киев. Но видать, не суждено. Между итальянским и польским фронтами они вдвоем на день заскочили в село Драговиль к Мирону домой, а когда отъезжали, то мать Мирона сказала Бачинскому:
- Присмотрите за ним, Василь, он такой беспечный у меня.
Может, поэтому Бачинский и усмехнулся сейчас так виновато, что вспомнил мать Мирона. Бедная женщина, ее муж, отец Мирона, положил свою голову еще на Маковцы, старший сын пал на горе Лисона, а теперь вот младший... больше никого у нее нет.
- Василь, - сказал Мирон, и тоже усмехнулся. – Благодарю тебя за все.
Это впервые он обратился к сотнику на “ты”, как будто бы тут уже не было ни старших, ни младших по рангу, перед смертью были все равны. Но у Мирона в мыслях было другое. Кровь текла из рукава Бачинского, но, ни ему, ни кому-то другому и мысль не приходила в голову перевязать рану – на такую роскошь времени уже не было. В левой руке Бачинский держал револьвер, жалея, что не научился стрелять с левой.
- Иди к черту, - сказал он.
Новая лава конников летела такой ровной волной, что даже большевики, которые только что взяли в клещи курень, приоткрыли рты от удивления.
- Лава! Ла-а-а-ва! – покатилось над полем, и прошли еще одна-две минуты, пока они не услышали громкое и выразительное: “Слава”. Три сотни конников с поднятыми вверх саблями, рассредоточившись по полю, летели на тылы красных.
- Слава! – как по команде произнесли в один голос стрельцы. – Сла-а-ва!
51
Красные разлетелись в разные стороны, кто за насыпь, кто вдоль железной дороги, кто вслепую помчался в поле. Один наездник на красивом буланом коне убегал последним, постоянно оглядываясь, и поэтому он так часто крутил завернутою в буденовку головою, что был похож на дятла.
Наездница на белом коне вскинула с плеча карабин. Даже ее конь задержал дыхание, и его ноздри дергались только на выстрелы. “Дятел” вылетел из седла.
- Маруся... Маруся... – послышались голоса из высушенных глоток.
- Откуда она взялась?
- Бог послал.
- Еще бы немного запоздала, то нам аминь был бы.
Ее было видно издалека, и Мирон Горняк вместо того, чтобы улыбаться Бачинскому (возле которого уже хозяйничал санитар), не сводил глаз с атаманши. Она была далеко от него, но Мирон хорошо видел родинку над углом ее губ. Красный шлык развевался на смушковой шапке, золотая коса спадала на грудь, и он почему-то видел только эту родинку, хотя ее невозможно было увидеть с того расстояния, где стоял поручик Горняк.
Над вытоптанным полем стояла низкая пыль недавней битвы. По колени в той пыли бежал буланый конь убитого кавалериста, постукивая пустыми стременами.
II
Бои за стратегический железнодорожный узел Фастов оказались тяжелыми, и главная тяжесть как раз выпала на 8-ую Симбирскую бригаду, в которую входил 2-ой курень Осипа Станимира. Красные стянули сюда большие силы, так как этот узел должен был обеспечить отход их 14-ой армии, которая прибывала из-под Одессы на объединение с 12-ой советской армией в районе Киева.
Местность для наступления была неудачная, потому что было много лесов и разрезанных рвами и балками полей, где в мягком песчаном грунте вязли ноги. Большевики оказались недалеко от железной дороги, по которой туда-сюда сновали бронепоезда. С обеих сторон стреляли пушки, и было много погибших.
22-го августа галичане массивным ударом с юго-запада сломили сопротивление врага и стерли его позиции, взяли Фастов. Фортуна улыбнулась им и в Белой Церкви. Там большевиков разбили запорожский корпус вместе с Днепровской дивизией атамана Зеленого.
В Фастове служба тыла подогнала купальный вагон для помывки стрельцов, которые смыли с себя порох и кровь. Настроение было бы совсем радостным, если бы не страхи, которых они насмотрелись в городе. Мирон уже видел такое и в Житомире, и в Козятине, тоже залитые кровью замученных горы мужских и женских трупов (большевики называли это “разгрузкой тюрем от ненадежного элемента”), покалеченные тела с выколотыми глазами, обрезанными носами и ушами, а тут, в Фастове, они еще напали на погреб, в котором москали живыми замуровали семью с тремя маленькими детьми.
52
На рассвете галичане выдвинулись в направлении Киева. Центральная армейская
группа вынуждена была перерезать линию Белгородка – Боярка – Глеваха – Васильков – Великая Бугаевка. 8-ая Симбирская бригада получила приказ захватить станцию Васильков, а 2-ая Коломойская бригада захватить весь город Васильков, а 2-ая Коломойская бригада захватить город Васильков. Перед Киевом это была последняя линия обороны, и тут красные озверели до края. За спинами своих же бойцов они выставляли заградительные отряды, которые стреляли в тех, кто вынужден был отступать.
Злился полк ”Черных чертей” имени Льва Троцкого, сформированный из отпетых уголовников. Их пулеметы безжалостно косили и москалей, и хохлов, которые затесались в большевистский Таращанский полк (этот полк, как и Богунский, имел украинское название только напоказ, для пропаганды, а на самом деле там хохлов собралась пригоршня). Курень сотника Станимира тут и там натыкался на трупы красных, посеченных пулеметами.
Некоторое время на пути куреня было свободно, только иногда навстречу выскакивали небольшие большевистские разъезды, но, увидев противника, они быстро исчезали с глаз.
Марусины казаки на этот раз обеспечивали левое крыло. Они устали от такого “котячого” марша. Атаманша через связного передала Бачинскому, чтобы он не волновался, когда ее отряд будет некоторое время отсутствовать.
Плотным огнем галичан встретил враг недалеко от Боярки, причем ударил сверху, с горы, неожиданно, когда галичане поднимались склонами, ища какой-нибудь стоянки или лесочка. Собирался дождь, и нужно было его где-то пересидеть, и тут напоролись прямо на большевистские окопы. Отступать назад было не с руки, их бы с горы посекли из пулеметов, поэтому Бачинский дал команду рассредоточиться в цепь и брать врага быстрым приступом.
Сперва кто-то крикнул “Ура!”, но стрельцы, уже наученные опытом, подхватили его как “Слава”, и этот клич покатился под гору. Со всех сил побежали стрельцы, они кричали “Слава!”, и не поняли, как оказались в чужих окопах, где уже не было никого. Москали разбежались. Тут еще ко всему ударила молния, грохнул гром сильнее, чем пушка, и красные разбегались, как рыжие мыши. Стрельцы увлеченно смотрели им вслед, удивляясь, что иногда, когда Бог помогает, можно взять высоту без жертв. Удивлялись, что человек, когда ему приспичит, может вот так быстро бегать, как будто бы сама жизнь убегала от него, и он догонял ее из последних сил, чтобы прикоснуться к ней хотя бы кончиками пальцев.
Удовлетворенные легкой победой, они забыли, что искали укрытие от дождя, и когда упали, вспомнили про дождь и стали подставлять запыленные лица этому дождю, ловя его пересохшими губами с горячих щек, по которым стекали черные ручейки дождя с потом и грязью.
В это время будто из-за их спин, немного левее, выскочил отряд конницы и, пронесшись мимо стрельцов, помчал вслед за убегающими красными. Впереди летела Маруся, ее красивый шлык развевался за спиной, белый конь под дождем превратился в темно-серебристого, но Мирон любовался не конем, он мысленно видел только родинку над углом губ. Маруся была уже далеко, а он мысленно видел эту родинку и блеск ее
53
тревожных серо-синих глаз.
Врага преследовал не весь Марусин отряд, только сотня наездников летела вслед за чужой пехотою, которая исчезала за пеленой дождя. Поручик Горняк знал из карты, что где-то там за версту-другую должен быть кирпичный завод, и если москали успеют засесть за его стенами, то коннице будет плохо. Там ведь могут стоять свежие силы большевиков.
- Пане поручик! – обратился Мирон к Станимиру. – Прикажите ускорить шаг.
III
Это был известный партизанский маневр, когда на уставшую пехоту, которая еле передвигается, бросают конницу и вырубают ее донага. Сначала убегавшие, увидев, что за ними никто не гонится, снова начинали собираться вместе. Одна группа спряталась за осокою, что росла вдоль полевой дороги, другая побежала за скирду, третья, спотыкаясь и падая на скользкой дороге, сверкая пятками, в лесопосадку. Отряд Маруси наседал на вражескую пехоту, которой не было видно за стеной дождя.
Низкорослая кобыла Василя Матияша страх как любила дождь, не бежала, а танцевала, поблескивая “панчишками”. Мокрый английский френч на Василии блестел, как клеенка, а с большого хищного носа скатывалась вода.
Маруся также промокла до нитки, ее короткая рубашка прилипла к телу, поверх сорочки был еще лифчик, который Маруся надевала ради карманов, в которых и сейчас насыпью лежало до двух десятков магазинов к нагану, что заменял ей саблю.
Чего-чего, а саблю Маруся не брала в руки, так как тяжелым было это казацкое оружие для нее, а в конной атаке для нее были главными карабин и наган. Умела держать дистанцию с врагом побольше, чем размах сабли, а стреляла, что из карабина, что из револьвера лучше многих казаков, хотя казачня у Маруси была отборная, особенно горбулевская сотня, с которой она выскочила на “прогулку” под веселый летний дождь. Большинство горбулевских казаков воевали еще с ее братом Алексеем: Пилип Золотаренко, Семен Гарманчук, Иван Горобей, Оверко Липай, Степан Помпа, Сакив Галдун...
Правее от Маруси скакал на чистокровном горбоносом киргизе (порода коней) чистокровный шляхтич Льодзью Липка. В Горбулеве жило много поляков, и Льодзьо жил на улице, которая так и называлась – Первая Шляхта, а еще за ней были Вторая и Третья Шляхта. Когда москали изнасиловали его невесту Марилку, издевались прямо возле костела, на кладбище, Льодзью пошел в казаки к Дмитрию Соколовскому. Не жестоким стал Льюдзью к своей Марилке, у которой после ее изнасилования что-то случилось с головой, а стал любить ее после этого еще больше, мог ей улыбаться, хоть никто не видел улыбки на его тонком, как лезвие лице.
Левее от Маруси скакал Сакива Галдун, придерживая свою гнедую кобылу Гальку. За ней скакал Санько Кулибаба, который свой серебряный портсигар с медвежатами обменял на хорошую саблю, и теперь вместо хорошей плетки он полоскал по дождю голую саблю.
54
Самым большим добряком среди горбулевских казаков был Никита Шульга. Даже
если он сидел на коне спокойно и не ехал, то седло скрипело под ним только от того, что он дышал. Никита и на самом деле был шульгою – рубал с левой руки, но так, что из
одного живого москаля делал два неживых. Рубал он с плеча, как будто дрова колол. А
когда бил по черепу, то целился тупой стороной сабли, чтобы не зазубрить “лезвие. Сабля хрякала об головешку, как об макитру. Так как Никита Шульга был добрым, то он и москалей жалел, говорил, что они люди неплохие, только их раздражали немцы, поссорили с нами, вот они, братушки, придут, и мы заживем с ними в мире. Но когда эти братушки пришли и забрали у Никиты то, что он любил больше всего (убили жену), Никита озверел. Еще он больше всего любил, как пахнет его сарай и загородка со скотиной. Станет, бывало, вечером возле загородки и не может надышаться теплым воздухом скотины, соломы и собранного навоза. Теперь нет этого добра у Никиты, есть только сабля, которая хрякает об макитры братушек, которых добрый и спокойный Никита где-то в глубине души до сих пор жалеет и любит.
Самым старшим из горбулевских казаков был Оверко Липай. Ему перевалило уже давно за тридцать, но Оверко ростом не вышел. Это был маленький заикающийся мужчина, который в своей жизни не убил и мухи. Хотя матерый охотник Оверко мог в ту муху прицелиться из револьвера на один лишь звук. Когда-то, еще при покойном Дмитрии Соколовском, ему нужно было завалить бронепоезд. Оверко так и говорил “завалить”, как будто бы шел разговор про козу или кабана на охоте. Пушек у них было немало, но все непригодные к стрельбе. На рысях подогнал целую батарею, мгновенно облетели передки с лошадьми, и три пушки стали на пригорке в ряд. Наводчики заметушились возле панорам, но вышел пшик. В одной пушке заклинило снаряд, который затолкали в казенник, не обтерев с него песок, в другой сносился спусковой механизм, в третьей барахлила панорама. Тогда Оверко через ствол навел третью пушку на мишень, перекрестился и выстрелил. Снаряд попал прямо в бронепоезд. На большевиков он злился с тех пор, когда они забрали у него корову, лошадь, три свиньи с поросенком. Даже волостной военком Щегловитов удивился таким грабежам:
- Да, Оверко, с тобой перегнули мы палку, конечно. Но ты не сердись, мы вернем тебе все с лихвой.
- А к-к-когда? – заикаясь, спросил Оверко.
- Скоро, - успокоил его Щегловитов. – Вот построим коммунизм, и государство тебе все вернет.
Вернули пока что вместо коня худую лошаденку, да и то Оверко забрал его силой у покойного военкома Щегловитого. Добрый конь оказался – сидя на нем, Оверко и теперь чувствует, как кипит кровь под его вороною кожей. Мокрый жеребец блестел глянцем.
В шуме дождя глухими стали Марусины команды:
- Галдун – на деревья!
- Кулибаба – посадки!
- Липка – в обход!
Сакив Галдун с двумя десятками казаков поднялся в направлении прибрежных камышей. Санько Кулибаба повел самый большой отряд в сторону лесопосадки, Льодзью Липка погнал за посадку в обход.
55
Маруся развернула Нарцисса к скирде. Она почувствовала, что враг где-то близко,
сейчас хлопцы на него наскочат, и тогда, что кому на роду написано. За пеленою дождя Маруся не заметила, как вплотную налетела на красноармейца за скирдой, и
увидела прямо перед собою мокрую блестящую кожанку и фуражку с красною звездою. Вместе с выстрелом Маруся почувствовала, как возле щеки пролетел горячий комок от пули. В тот же момент в ее руке подпрыгнул наган. Тот, который был в фуражке, схватился за грудь и упал навзничь под ноги Маруси. Его “ойк” был похож на пистолетный выстрел.
Глухо застучал “льюис”. То Степан Помпа, не слезая с коня, “помпувал” красных уже свинцовым дождем. Стрельба разгоралась за осоками, охнула граната в лесопосадке. Первого, кто подвернулся под левую руку, Никита Шульга “расколол” накрест. Из казаков упал только Льодзью Липка, он полетел вниз головой вместе с горбоносым Киргизом, оба они еще долго скользили по траве, и неизвестно было, кто из них живой, а кто мертвый. Оказалось, что живы оба – у Киргиза оторвалась подкова, он споткнулся и, падая, придавил ногу Льодзью к земле. Пока Липка приходил в себя, бой окончился.
Эту атаку называть боем тяжело, так себе, была суматоха. Может потому, что сразу упал командир, может, красных напугали сабли или дикое ржание бедолашного Киргиза, и они начали поднимать руки. При этом Маруся впервые такое увидела, чтобы вгоняли винтовки стволом в землю. Казакам это не нравилось, они не любили стрелять в безоружных, но и жалеть их также не любили. Это было то же самое, что откладывать долг на потом. Хлопцы, как и их друг Оверко Липай, привыкли рассчитываться сразу, не дожидаясь коммунизма.
Вместе с колотнечею заканчивался и дождь. Он прекратился мгновенно, и наступила такая тишина, что в нее можно было воткнуть штык. Стало светло, правда, еще над полем кое-где поднимались низкие тучи, это после грозы парила земля.
Маруся соскочила с коня и, звеня шпорами, подошла к скирде. Красный командир в черной кожанке и темно-синем галифе лежал вниз животом, зарывшись носом в землю. Возле него валялся бинокль с разбитыми стеклами.
- Ему не жарко в этой кожанке? – спросил Оверко Липай.
- Уже нет, - сказал Сакив Галдун. – Хочешь занять?
- А дырок там много? – допытывался зануда Липай.
- Кажись, одна.
- Хе, одна. А если пуля прошла навылет?
- Тогда две, - сказал Галдун.
- Атаманша, - услышала сзади себя Маруся голос адъютанта Василия Матияша. – Там... пленные просятся.
- У нас нет пленных, - не оборачиваясь, сказала Маруся.
Василий переступил с ноги на ногу.
- Так, но они хотят вам что-то сказать.
- Подведите.
Их было около полутора десятка. Еще молодые, вероятно, комсомолята, они бодрились из последних сил, но лица были уже мертвенно-бледные.
- Вы настоящая атаманша? – недоверчиво смотрел на нее высокий, сгорбленный в
56
плечах молодик.
- Говорите, что хотели.
- Тут такое дело, - перевел он дыхание. – Разрешите нам перед смертью запеть
Интернационал.
- Вместо молитвы? – спросила Маруся.
- Мы в Бога не верим, - парень уже цокотал зубами, но пытался держать фасон.
- Ну, если вы так хотите себя отпеть, то, пожалуйста...
Они плотнее сошлись в шеренгу и, касаясь плеча друг друга, затянули: “Вставай, проклятьем заклейменный...” Пели не в лад, но так воодушевленно и натянуто, что на шеях выкатывались жилы. Это было очень волнительно, певцы в эту торжественную минуту смотрели в небо, затем переключились смотреть на своего командира, что так и лежал возле скирды носом в землю. Невольно выходило так, как будто бы его просили, что, мол, вставай, проклятьем “заклейменный”, весь мир голодный, а ты вылеживаешься тут под скирдою. Моторошным казалось их пение, даже не пение, а хлипкое завывание, от которого у Маруси по спине пробежали мурашки.
- Так когда-то моя коза на льду кричала, - подытожил Сакив Галдун.
- А говорят они по-нашему, - сказал жалостливый Никита Шульга. – Может, всыпем плеткой, и пускай идут себе домой?
- Хорошо, - согласилась Маруся, - но сначала давайте спросим у них, - и обратилась к парню, который стучал зубами: - Чтобы вы сделали, если бы нас захватили в плен?
Тот сделал глубокий вздох. Он чувствовал, что все, кто стоял за ним в шеренге, напряженно ждали ответа.
- Контру мы расстреливаем, - наконец, выдохнул он.
Маруся посмотрел на Никиту Шульгу.
- Слышал, контра?
Никита жалостно кивнул головой, и под ним заскрипело седло.
К ним уже спешил Льодзью Липка с обнаженной саблей. Он вытянул придавленную Киргизом ногу, и, шкандыбая боком, приближался к своим. Льодзью боялся опоздать.
Маруся отошла за скирду и закрыла ладонями уши.
Короткие стоны слышались больше, чем выстрелы.
- Пах-ах-ах-ах...
С поля послышался шум. Обернувшись в левую сторону, она увидела, что в их сторону широкой лавой движется пехота. То были стрельцы 2-го куреня, который шел на помощь Марусе.
Один галичанин, нарушая боевой строй, вырвался далеко вперед, Маруся узнала его. Он был из тех хлопцев, которых узнают издалека.
IV
Жестокий бой состоялся на следующий день возле Глевахи, где красные заняли
удобные позиции на буграх и вдоль железнодорожной насыпи. Здесь курсировали три их
57
бронепоезда.
Перед боем настала тяжелая тишина. Потом в небе, над головами стрельцов, появились одна за другой белые тучи, разорвались шрапнели и только после того
послышались удары пушек. Вражеская артиллерия окопалась перед селом за мельницами,
и лупила издалека по пристреленному месту. Тут и там к небу поднимались черные столбы земли. Когда вверху со свистом пролетел артиллерийский снаряд, все пригибались, втянув головы в плечи, как будто бы от стрельбы можно спрятаться. Они знали, что пощадить мог только счастливый случай. Как это случилось с Михасем Працивым. Мирон сам видел, как черный гейзер земли накрыл с головой Михася, пристрелянный снаряд упал рядом с ним, но когда порох и дым рассеялись, Михась поднялся с земли целый-целехонький. Он потрогал свою голову, есть ли она на шее, потом поднял к небу глаза, перекрестился. Удивительно, каким сосредоточенным и последовательным был Михась Працив после такой оказии, он старательно обтрусился, и затем, часто хлопая глазами, осмотрелся вокруг, и стал искать винтовку и фуражку, которые нечистая сила разбросала неизвестно куда.
Хлопцы откуда- то ему кричали, но Михась ничего не слышал. Его красивое, как земля лицо, было чужим и неподвижным. Только когда Петро Гультайчук подал ему винтовку, лицо Михася задвигалось такой улыбкой, что с его щек посыпались кусочки земли. А стрелецкую фуражку не нашли. Михась любил свою темно-синюю фуражку с твердым околышем и называл ее шапкой. Вероятно, соблазнилась нечистая сила и забрала ее себе, удивительно только, что не забрала вместе с головой.
- Такое бывает один раз на тысячу, - пояснил сотник Станимир, – это когда ты, мужчина, попадаешь в “мертвое пространство” выстрела. Только мертвое пространство дает шанс на жизнь.
Под Глевахою многие такого шанса не имели. Галичане перли на Киев безоглядно, хотя и несли немалые потери. В каждом проблеске на горизонте им чудились золотые башни киевских церквей. Еще немного, и они сломят большевиков, помолятся в тех церквах, а потом вместе с надднепровскими братьями пойдут на Львов.
Из бронепоездов также били пушки и секли пулеметы, слабые выстрелы шрапнели обсыпали стрельцов свинцом. Красные кидались в контрнаступление развернутым фронтом, но снова и снова вынуждены были возвращаться к своим окопам, оставляя сзади себя много убитых и тяжелораненых.
Отряд Маруси во фронтовые стычки не встревал, так как не партизанское это дело идти грудью на регулярную армию. Повстанцы воюют, когда сами того хотят, а не тогда, когда приспичит врагу. Маруся со своими казаками гуляла на правом крыле 8-ой Симбирской бригады и патрулировала мелкие части красных, которые отрывались от основных сил.
К вечеру, когда левое крыло галичан приближалось к железнодорожной дороге между Будаивской (в последующем село слилось с Бояркой) и Глевахой, броневики красных быстро двинулись с поля боя, чтобы их не отрезали от своих. Увидев, что бронепоезда один за другим убегают, большевистская пехота запаниковала и также побежала на “полном пару” в полнейшем безлюдье. Галичане едва успевали наступать красным на пятки.
58
До захода солнца курень Осипа Станимира занял Глеваху.
Курени Антона Тарковского и Данилы Базияша доложили, что взяли Васильков. Там 24-го августа галичане разорвали последнюю линию обороны и расчистили прямой
путь к Киеву.
V
На следующий день к Глевахе подошел бронепоезд, в вагоне которого был сам Главный Атаман объединенного украинского войска Симон Петлюра. Рассмотрев в бинокль поле недавнего побоища, и согласовав положение со своим штабом, он приказал подать ему список старшин и стрельцов 2-ой Симбирской бригады, которые отличились в бою за Глеваху.
Когда этот приказ прибыл к сотнику Станимиру, тот подергал себя за правое ухо.
- Тех, что отличились, уже нет. Зачем им награды?
- После победы передам родным, - сказал поручик Горняк. – Они должны это знать, и не только они.
- Тогда пишите. Романчук, Онишкевич, Кис, Працив...
- Працив живой, - сказал Мирон.
- Пишите, - настоял Станимир. – Працив, Гультайчук, Семенюк...
Потом Мирон спросил:
- А Марусины казаки? Мы же, как будто вместе...
- Про это нужно спросить у Маруси, - Станимир как-то удивленно посмотрел на Мирона. – Пойдете и согласуете. Слава Богу, объявились. Стоят у леса.
- Почему я? – спросил Мирон.
- Потому что ты, пане поручик, отныне назначаешься дипломатом между нашим куренем и отрядом Маруси для согласования боевых действий.
Их взгляды встретились, но Мирон отвел глаза.
- Може, вы, пане сотнику, думаете, что я... что мне...
- Это приказ, - сказал Станимир. – Выполняйте. – Возьмите у связного коня, так как то гонористое войско пешего вас и не поймет.
Марусиных казаков Мирон нашел под лесом. Возле озера. Тут была стоянка партизанского отдыха. Одни поили лошадей, другие сыпали им с лотков овес, третьи варили в казанах такую вкусную кашу, что ее запах стелился по всей Глевахе. К нему добавлялся запах дыма, конского пота и портянок, которые сушили на кустах и ветках. Большинство казаков разулись, чтобы ноги отдохнули, положили шапки изнанкой к солнцу, чтобы проветрились от соленого пота.
На Мирона никто не обращал внимания, пока он сам не подъехал к одному парню, который примостился на пне, зашивал цыганской иголкой сапог. Поздоровавшись, Мирон спросил, где можно найти атаманшу, но что парень усмехнулся и сказал, что это не позволено знать никому, что если бы Марусю можно было так просто найти, то какая бы из нее была атаманша?
59
- Но должна же быть с ней связь? – стоял на своем Мирон. – Я имею к ней важное дело. Меня послал куренной.
- Это нужно спросить у наших офицеров.
- Где они?
- А там! – парень показал цыганскою иголкою в сторону казаков, которые на берегу играли в карты. – Игроки как раз одному погоны цепляли. - Гей, Кулибаба, тут к тебе! – прокричал парень.
Санько Кулибаба неохотно оторвался от игры. Подошел к Мирону, выслушал его, легко похлопал себя по голенищу плетью, которую выменял за серебряный портсигар с медвежатами в утреннем лесу, потом посоветовал Мирону попасти лошадь и искупаться в озере, пока он узнает, примет ли его атаманша. Искупаться обязательно, напомнил Санько, так как Маруся не любит, когда от казаков несет собачатиной.
- Наши хлопцы, как захватили у комиссара ящик одеколона, то даже коней душили. Моей Галке нравится, а жеребец Оверка неделю чихал.
Санько подтянул на кобыле подпруги и поскакал под лесом в сторону села, аж хвост у Галки задрался.
Парень, который зашивал цыганскою иголкой сапог, тихонько, сам себе (а может, Мирону) затянул песню: “Осень желтая, цвет розовый. Куда-то поехал Соколовский. Куда поехал, и нету. С казаками пьет-гуляет”.
Парень замок и прищурил глаза на Мирона. Или тот что-то понял? Мирон его понял.
- Про атамана уже и песню сложили? – спросил он.
- А то как же?
- А цвет розовый – это какой?
- Не знаешь, что такое ружа (роза)? – удивился парень.
- Чего же не знаю? Но роза имеет разные цвета.
- В Горбулево она имеет один цвет.
- Какой?
- Розовый, - сказал он.
Вернулся Санько Кулибаба, и теперь они уже вдвоем с Мироном помчались к селу, где возле одного двора их встретил крепкий хлопец, одетый строго. Мирону показалось, что его одежда ему знакома, хлопчик, вероятно, также был из “Марусиного войска”, поэтому следил за своей одеждой. Санько Кулибаба передал Мирона этому хлопцу, а сам снова подался в лес, не оглядываясь, Маруся не доверяла даже своим. Только два-три человека знали о месте ее постоянного пребывания.
Хлопец молча провел Мирона во двор с большой хатой, поделенной на две половины, показал, где привязать коня и кивнул на веранду. Там стоял часовой, которого Мирон узнал – это был Марусин адъютант Василий Матияш. Он был без войсковой амуниции, без адъютантского форса. Под легкой свитой он имел револьвер, и внешне напоминал молодого хозяина, который открыл перед Мироном сенные двери и деликатно их закрыл, а сам остался на веранде.
На какую-то минуту Мирон оказался в темноте, почувствовал изменчивые толчки в груди. Немного постоял в сенях и на глаз постучал в дверь. Ему показалось, что он
60
полчаса ищет замок, и уже не найдет его никогда, но вдруг двери открылись, и в хату его пропустила девушка в белом кафтане, вышитом на грудях и рукавах красным и черным
крестиком. Он впервые увидел ее без шапки, увидел гладко зачесанные на пробор волосы, туго заплетенную золотистую косу, которая лежала на груди через плечо. На тонкой шее краснели кораллы с фигурками маленьких музыкантов.
- Не удивляйтесь, пане поручику, - сказала она. - Имею такую слабость. Иногда
одеваюсь... как когда-то дома. Я все-таки девушка.
Усмешка в ее серо-синих глазах засияла тревожным блеском.
В просторной комнате на обоих окнах были цветы, как в роще, и на подоконниках, и на лавке, и по углам, и даже на черном сундуке стояли тоже цветочники. Деревянный пол был застелен зелеными домоткаными дорожками.
- Прошу садиться, – мягко выговаривая “р”, Маруся пригласила его к столу и показала на табурет с желтым плетеным сидением. – У вас ко мне дело?
- Благодарю, я... властью... пришел спросить?.. Дядько б его взял! – У Мирона потянуло язык. – К-куренной просил представить список ваших казаков, которые отличились в бою за Глеваху.
- Список? Для чего?
- Для награждения
Маруся не сразу поняла, о каком награждении идет речь. Уважительно посмотрев на Мирона, она вдруг засмеялась, и также вдруг прекратила свой смех.
- Извините, - сказала она. – Мои люди не требуют награждений.
- Боевые отличия есть неотъемлемый атрибут военного времени.
Мирон чувствовал, что говорит чужим голосом, и оттого злился на себя.
- Давайте без пафоса, пан поручик. Мы воюем не за награду. Думаю, вы также.
- Известно. Но если вы... если мы с вами воюем за Украинскую Народную Республику, то вынуждены уважать ее отличия и символы. Или нет?
- Да, но я уважаю и своих казаков, - сказала Маруся. – Мне некого из них отличать!
“Бестия!” - подумал поручик Горняк. Разговор был окончен, но ему не хотелось уходить.
- Вы любите яблоки? – просто спросила она. На столе, застеленном зеленой скатертью, стояла чашка с горой желтых яблок.
- Не знаю, - сказал он. – Никогда об этом не думал.
- Тогда угощайтесь!
Мирон набрался смелости и посмотрел ей в глаза.
- Если только из ваших рук.
Маруся подала ему большое плотное яблоко, которое светилось налитой спелостью. Он посмотрел через него на свет. Казалось, в середине были видны даже зерна.
Она и себе взяла яблоко, и оно так аппетитно треснуло на ее зубах, что Мирон почувствовал его вкус.
- Я на яблоках могу прожить весь день, - сказала Маруся.
- А я только ночь. Поэтому с вашего разрешения возьму эти яблоки с собой.
Их разговор помимо их воли перешел в игру и Маруся спросила:
61
- Какое ваше любимое дело?
- Какое есть, - сказал Мирон. – Когда мы на итальянском фронте с Осипом
Станимиром съели целого верблюда.
- За один присест?
- Нет, конечно, но за один раз. Но мы его обглодали до костей.
- Где это было?
- В Альпах.
- Расскажите, - попросила она.
- Про верблюда? – он усмехнулся.- Или про Альпы?
- Что поинтереснее, - сказала она.
- Мы стояли на Монте-Бинато. На такой высоте, где орлы строят гнезда. Там, когда происходит выстрел, его звук целый день переходит от одной горы к другой, от обрыва до обрыва. И тогда кажется, что эти горы вот-вот обвалятся, и ты провалишься вместе с ними в седьмой ад.
- Страшно? – спросила Маруся.
- Страшно, - сказал он. – Но я был солдатом, и меня послали на войну. А как... вы?
- Что я?
- Вам не страшно?
- Бывает, - сказала она. – Однажды когда я ночевала в скирде, мне в пазуху залезла мышь. Я наделала такого крика, что подняла по тревоге всех казаков.
Мирон представил эту мышь, как она залезла ей в пазуху.
- Шутите, - сказал он. – Я не об этом. Что вы, юная девушка, пошла на войну.
Она помолчала, потом сказала:
- У меня не было выбора.
Глава шестая
I
В наступлении на Киев возник перерыв, который тянулся четыре дня. От 25-го августа до 28-го августа все ждали, пока 1-ый Галицкий корпус выйдет на линию Василькова. Этот корпус, которым командовал полковник Осип Микитко, шел на Киев не железной дорогой, а грунтовыми дорогами, поэтому опоздал на четыре дня. Все указывало на то, что галичане могли взять столицу без 1-го корпуса. Однако наверху не хотели ломать принятый план наступления. Главный Атаман положился на фортуну, которая улыбалась украинцам на всю губу. Блистательное взятие Киева не вышло. Стрельцы, которые надеялись уже завтра помолиться в Киево-Печерской лавре, повесили носы. Поручик Мирон Горняк чувствовал нехорошие сомнения. Ему также нужно было задуматься о задержке наступления, но эти четыре дня стали самыми счастливыми в его жизни. Так предсказали ему августовские звезды, которые дрожали в небе ясные и великие, как переспевшие яблоки. Дрожали и падали. В моменты затишья стрельцы время не теряли – восстанавливали одежду, чистили оружие, ремонтировали амуницию и даже вымачивали в речке кожу и шили всякую обувь. Обносились хлопцы, на многих уже не осталось стрелецких однополчан, с какими переходили Збруч. Много было таких, которые носили красноармейскую одежду, захваченную во вражеских обозах или эшелонах, кое-кто ходил оборванным. Дошли до того, что Петро Гультайчук имел на одной ноге ботинок, а на другой сапог с отрезанным для симметрии голенищем.
- И ты, Петро, так собрался по Киеву маршировать? – спросил его Михась Працив. – Стыд какой!
- Та нет, - сказал Гультайчук. – Как возьмем Киев, то обуюсь в комиссарские хромовики. Господи, как я этим тешу себя.
Вечером Мирон пошел посмотреть на речку, и показалось, увидел белого коня, который пасся на берегу. Ноги понесли его на ту сторону, где пасся белый конь. Речка Плиска была узкая, на два скока конем, но в русле глубокая, можно искупаться. Местные рыбаки ловили в ней сетками щук и линей, говорили, что в ямах водится сом.
На берегу пасся белый конь, и взгляд Мирона побежал против течения вверх в поисках наездника. Он увидел на тропинке возле мостика кладку, сделанную из деревянного кругляка. Маруся сидела близко у воды, обняв колени, и смотрела на речные цветы, которые цвели своими желтыми маковками. Слышала, как кто-то подошел, но не обернулась. Потом сказала:
- Сегодня я видела вас ночью во сне. Снились мне те горы, где орлы гнезда вьют. Расскажите мне еще про Альпы.
- Нет ничего более противного, как рассказывать про войну.
- Я же прошу рассказать мне про горы, а не про войну.
- Голые горы, - сказал он, садясь рядом. – Нигде ни дерева, ни травинки. Серая бесконечность до неба, от тишины можно оглохнуть.
63
- Альпы я представляла другими, - сказала она.
- Я там не видел зеленых долин, где цветут альпийские фиалки. На Монте-Баното был ад.
- Как вы оттуда выбрались?
- Там мы узнали, что цесарь отказался от трона. Мы проиграли чужую войну и больше ничего нас не интересовало. Нас бросили на произвол судьбы. Шли домой слепо, без еды, без воды, без ничего. Неделю шли до первого места. По дороге встретили верблюда, о котором я вам уже рассказывал, что мы его съели. Мы должны были выжить, впереди нас ожидала наша война. Австрийская монархия распалась на куски, в Львове власть взяли украинцы, началась жестокая битва с поляками за Украинскую державу.
Мирон умолк, смотрел на красное солнце, которое быстро садилось за лес. От речки тянуло прохладой. Ближе к концу августа вечера вообще становились холодными.
- Что вы видели во сне? – спросил он.
- Я не хотела вам этого говорить. Но скажу... чтобы вы береглись.
Она повернула к нему лицо. Оно было меланхольно-грустным.
- Вы стояли на самом высоком обрыве, - добавила она. – С темным лицом и очень озабоченный. Потом что-то загудело и горы начали обваливаться. Больше я вас не видела.
- Я раньше вам об этом рассказывал – оно и приснилось, - сказал Мирон. – Обыкновенная речь.
- Нет, - кивнула головой Маруся. - Сон предупреждает. А если есть предупреждение, беды можно избежать.
В это время на противоположном берегу в верхолазах тонко пискнула птичка. Маруся прислушалась, как будто бы ей был дан знак.
- В нашем положении трудно все предопределить, - сказал Мирон. – Человек стреляет, а пули метит Бог. Потому фортуна чаще улыбается беспечному, чем осторожному. Не так ли?
- Так, - согласилась она. – Но помните мое предупреждение. Но вы...
- Что я? – Мирон не мог понять оборванный ее вопрос.
Она его волновала с тех пор, как увидел ее впервые, но не удавалось спросить, не было подходящего случая.
- Прошлый раз, когда я вас спрашивал, почему вы решили стать атаманшей, вы сказали, что не имели выбора. Почему?
- Моих троих братьев убили.
- Но почему ваши люди, где столько умных и храбрых мужиков, выбрали атаманом девушку?
- Они уже никому не верили, - сказала Маруся. - Потому что все трое из братьев погибли из-за измены.
- Вы говорите, что никому не верили. Но они что не знали, что вам угрожает то же самое?
- Знали, но кому-то нужно было становиться атаманом. Я согласилась. А чтобы вы сделали на моем месте? Отказались?
- Да нет.
После захода солнца на поверхности речки начала играть мелкая рыбка.
64
Красноперка, подпрыгнув над водой, упала в листок растения, выросшего среди речки, немного подергалась и снова булькнула в речку.
На противоположном берегу в верхолазах снова запела птичка.
- Вы знаете, что это за птичка? – спросила Маруся.
- Где? – не понял Мирон.
- На старой вербе. Плиска она называется.
- Плиска – это речка.
- Нет, - Маруся удивленно посмотрела на Мирона. - Птичка так называется, как и эта речка. Вы никогда не слышали про плиску?
- Нет, - сказал он.
- Это местное название птички.
- Как местное?
- Чисто украинское название. По московскому трясогузка.
- Впервые слышу.
- А удода знаете?
- Удода знаю, - сказал Мирон. – У нас даже есть один стрелец по фамилии Одуд.
- В моем селе эту птицу называют московской кукушкой.
- За что ее так?
- Потому что она все время гудит: “вот-вот, вот-вот”.
Мирон засмеялся от названия удода “московской кукушкой”, и ему после смеха стало легко. Теперь с Марусей он говорил уже спокойным голосом:
- Как так выходит, что ваш отряд всегда появляется нам на помощь в самую трудную минуту? Тогда возле Фастова никто уже не надеялся на чудо.
- Напрасно, - сказала она. – На чудо нужно всегда надеяться.
- Но подоспевал вот не кто иной, а вы. Почему?
- Мы же на конях! А конница вынуждена оберегать пеших. Особенно с тыла, разве не так?
Она сказала правду, но не ответила на его вопрос.
- Где вы научились воевать по-умному?
- А что, этому учатся?
- Тогда, под дождем возле Фастова о вашем маневре сотник Бачинский сказал, что ваш маневр нужно вписать в войсковой устав.
- Он преувеличивает. Но передайте сотнику, пускай не злится, когда мы иногда пропадаем. Это от партизанской вольницы. Дело в том, что конь не такой быстрый, как человек. И когда его вовремя не накормишь, не дашь отдохнуть, тогда не садись в седло. Так как потеряешь и его, и себя.
- Человек сильнее коня?
- А то, - сказала Маруся. – Человек двужильный, а конь – животное нежное. Так он сильный, быстрый, умный, но требует внимания и любви. Без любви конь будет стоять шкафом.
- А человек?
- Человек тверже, - сказала Маруся.
Мирон вспомнил Киев, вспомнил начало первой войны с большевиками, когда их с
65
Осипом прикрепили к пушечной полбатареи поручика Еремы. Придя к артиллерийским системам, ужаснулись беспорядку, который присутствовал там повсюду. Не только гражданские митинговали на площадях и улицах, но и военные также ссорились на трибунах, какой должна быть их революционная рада и власть, а возле пушек в это время гибло неиспользованное войсковое имущество, ржавели покрывшиеся снегом пушки, зияли разбитыми окнами ограбленные продуктовые лавки. И хотелось уже завыть, когда они зашли на артиллерийское стойбище, где было по колено навоза, и увидели трупы лошадей, между которыми пока еще подавали признаки жизни похожая на скелеты скотина. Одна лошадь тыкалась храпом в навоз, найдя там соломку, а остальные, прикрыв в слезах глаза, покорно ждали конца. Вокруг валялась втоптанная в навоз конская сбруя.
- Может и так, - сказал Мирон.
- Однако человек приручил коня, а не наоборот.
Короткий августовский вечер погас. Берег опустел, не видно было никого и там, где казаки мочили кожу. Только белый конь щипал луговую траву, фыркая на муравьев, которые лезли ему в рот и в глаза.
- Идем, - сказала Маруся, глядя на ту сторону речки, где в густых кустах верболаза вскидывалась рыбешка.
- Сказать правду? – сказал Мирон.
- Говори, - ответила Маруся.
- Не хочется с вами прощаться.
- Тогда давайте перейдем мостик, - сказало она. – Я вам что-то покажу.
Мостик скорее напоминал кладку, они вдвоем еле помещались на нем, Мирон поддерживал Марусю за локоть, так как деревянные кругляки были расшатаны и скользкие, но как раз посреди мостика она поскользнулась и, падая, потянула за собой Мирона. Он еще крепче поймал ее за локоть, чтобы удержать, но и сам утратил равновесие, и они оба свалились в речку. Упали почти торчмя так, что аж волны покатились к берегу и немного побарахтались, пока Мирон, поймав в одну руку стрелецкую фуражку и казацкую шапку, другой вытянул на берег Марусю. Промокшие до нитки, стояли они один против другого и тряслись больше от смеха, чем от холода, и оба как будто бы по команде расстегнули пояса вместе с кобурой, достали револьверы, вылили из кобур воду, а дальше... нужно было отжимать одежду, и эти двое молодых людей еще долго стояли один против другого, пока, наконец, пошли в лозы. Мирон стал за раскидистый куст, повернулся спиной туда, где в потемках пропала Маруся, снял тяжелые ботинки, вылил из них воду, отжал обмотки, а изношенную стрелецкую рубашку не отжимал, чтобы не разлезлась, а только, собрав ее в клубок, выдавил воду, легонько взмахнул и повесил на ветку, чтобы просохла, пока не управится с брюками и белизною.
Из-за леса выплыл красный месяц, который обещал назавтра ветер или бурю. После того как Мирон снял мокрую одежду, стало теплее, но его трясло от мелкой дрожи, которая шла откуда-то изнутри.
- Смотри! – услышал он позади себя голос Маруси. – Смотри, что я тебе принесла.
Мирон невольно оглянулся и увидел, что она голая, но Маруся не видела, ни своей, ни его наготы, это была Ева, которая еще не откусила запрещенного плода, она была
сосредоточена только на том, что держала в руке. Маруся стояла за пять шагов от него,
66
Мирон не мог рассмотреть, что там у нее в пригоршне, и они пошли навстречу один другому. Ее рука потянулась к Мирону, и она сказала, чтобы он взял это в обе ладони. Мирон бережно переложил из ее руки в свою пригоршню это маленькое чудо и увидел, что это небольшая птичка, не больше ласточки, только она была серая с белой шейкой.
- Это плиска, - сказала Маруся. – Слышишь, как бьется у нее сердце?
Две точки глаз были совсем спокойные, а в теплом тельце слышались такие пружинистые толчки, как будто Мирон держал в руках не птичку, а сердце.
- Слышу, - сказал он.
- Теперь отпусти ее.
Мирон раскрыл ладони, плиска взлетела в небо, и он посмотрел на Марусю. После купели ее груди сжались, маленькие девичьи соски были похожи на две смородинки, что красновато отсвечивали против красной луны.
- Тебе холодно? – спросил он.
- А что? – переспросила она.
Они обнялись.
II
Следующий день выдался ветреным. На позициях галичан было спокойно, горячую работу имели только разведчики, которые подходили ближе к киевским окраинам. Над Глевахою пролетел украинский аэроплан с желто-голубыми знаками на крыльях и черным трезубом на хвосте. Летел он так низко, что стрельцы видели летчика в шлеме и защитных очках – говорили, что он разведал все, что творится в Киеве по ту сторону Днепра. Своя “авиация” придала стрельцам необычное выражение бодрости от увиденного, они рассказывали один другому, какие хорошие самолеты имела галицкая армия – под Винницей в готовности стоит целый самолетный полк, в нем есть австрийские “альбатросы”, немецкие “фокеры” и даже французские “нюпорты”, которые делают полторы сотни километров в час. На одном из них летал сын самого Ивана Франко.
- Та я видел, - говорил Михась Працив, который уцелел в “мертвом пространстве” пушечного выстрела и даже не заикался. – Прошлый год в ноябре я видел Петра Франка на Замковой Горе в Львове (в день, когда украинцы захватили власть в Галичине, в результате чего была образована Западная Украинская Народная Республика (ЗУНР).
- На самолете? - не верили стрельцы. – Какой он?
- Да такой, что может летать, - улыбался Михась Працив.
- Да понятно, а какой он из себя? – надоедали хлопцы.
- Какой-какой? – сердился Михась, подозревая, что ему не верят. – Такой, как его отец.
- Ну почему он стал летать? – спросил Петро Гультайчук
- Кто?
- Франко!
- Может, и он
67
- Та такой, - повторялся Михась Працив.
Несколько далеких пушечных выстрелов донес ветер где-то от Белой Церкви. Василь Бачинский был убежден, что это атаман Зеленый встречал авангард деникинцев, которые также рвались к Киеву левым и правым берегом Днепра. От корпусного начальника штаба сотник Бачинский узнал, что к Белой Церкви подошла Терская пластунская бригада Добровольческой армии. Атаман Зеленый со своей Днепровской дивизией не был связан военной “дипломатией”, поэтому действовал по собственному усмотрению, как подсказывало сердце. А сердце говорило, что чужеземец есть чужеземец, и каждый из них не приходит с добром. Пускай он будет красный или белый, серый или желтый, но если попер на твою землю, то не спрашивай у него, что он думает делать дальше, а покажи пришельцу, сколько стоит фунт свинца на украинской ярмарке.
На позициях галичан было тихо, уже несколько дней не стреляли. На сельской дороге ветер тучами гнал пыль, бросал ее в глаза, песок скрипел на зубах. Шумел и так стонал лес, что аж слышно было, как ветер срывал с деревьев еще зеленые листья, валил ветки. На некоторых хатах посрывало крыши. Этот же ветер подхватил и куда-то понес половину Марусиного войска вместе с атаманшею. Не к Зеленому ли в гости подалось непоседливое товариство? Хотя половина осталась на месте, “держать позицию”, сторожить повстанческий лагерь. К вечеру стихло. Поручик Горняк, взяв у связного коня, поехал на речку Плиску к тому месту, на котором вчера какая-то неведомая сила вкинула его в воду. Хотелось еще раз хорошо рассмотреть те лозы, то место, где он получил целое счастье. Мирон удивлялся такому неожиданному повороту щедрой судьбы и думал, что она, эта судьба, за свой неизмеримый дар может потребовать и большую цену. Возможно, это предупреждение и видела Маруся в своем сне.
Он пустил коня пастись, сам перешел мостик, который был мокрым и скользким, так как на реке гуляла высокая волна. Под кустом верболаза, где он вчера отжимал свою одежду, Мирон увидел кучу примятой травы, как будто ее собрали тут для постели. Подумал и пришел к выводу, что это так сделал ветер и наделал неприятности хозяину, который поскладывал скошенную траву в стожки за лозами. Ветер раскидал колечки, и целые кучи травы зацепились в кустах верболаза. Мирон лег на одну кучу травы, и глубоко вдохнул горько-сладкий запах скошенной травы.
III
Маруся появилась, когда стемнело. По мостику простучали ее сапожки. От нее пахло ветром и дымом. Лицо было загадочное, как у девушки, которая что-то знает.
- Где вы, пани, сегодня гуляли? – спросил Мирон.
- Развлекалась, - ответила она. – С казаками.
- И как?
- Хорошо. Все живы. Я видела Ангела.
- С крыльями?
- Нет, вместо крыльев у него за плечами была винтовка. Я видела атамана Ангела.
68
Он с левого берега Днепра перескочил на правый. По-настоящему красив, как настоящий ангел.
- Понравился?
Атаман Ангел на самом деле был несравнимо красив. Имел болгарский корень, и фамилия Ангел была его настоящая, а не псевдоним.
- Поцелуй меня, - попросила она. – Ох, ты ж горе мое несмелое. Если бы не кинула тебя в речку, то и до сих пор не знал бы, что делать.
Ее губы были холодными, а рот горячим.
- Как кинула? – переведя дыхание, спросил Мирон.
- А так, умышленно. Чтобы повеселить тебя.
- Шутишь?
- Нет, - сказала она. - Мне было не до шуток. Не думайте обо мне плохо. Ты же не жалеешь, что мы упали в воду?
- Спрашиваешь.
- Будет нам с тобой, что вспомнить.
- Как ты поймала ту птичку?
- Очень просто. Плиска, она как ребенок. Когда закрывает глаза, думает, что ее никто не видит. Только надо уметь подойти к ней.
- Я думал, что ты колдунья.
- Это ты постелил нам постель?
- Нет, ветер.
- Ну, понятно, ты бы не отважился. Правда же?
- Что, разве мужество в этом? – спросил он.
- Не знаю.
- Мне кажется, что в другом.
- Скажи, если знаешь.
- Мужество там, где любовь.
Подростком Мирон занимался в товаристве “Сокол”, где он был первым в команде. Там ему говорили, что это была подготовка для пожертвования ради Родины. Другого объяснения Мирон не искал. Теперь же он знал, что мужество и самопожертвование – это не одно и то же.
- Извини, я была непредсказуемая, - сказала Маруся, и легла на отаву. – Иди ко мне.
Ночь посветлела. Над ними дрожали большие, как яблоки, звезды.
- Вчера я подумала, что может так случиться, что нас не станет. Может, кого-то из нас. И грехом будет то, что мы не соединимся. Грех будет то, что мы не соединимся.
- Мы проживем сто лет, - сказал он.
- Нет, я знаю, что век мой недолгий. И ты это знаешь. Поэтому я хочу любить.
- Почему ты выбрала меня?
- Откуда я знаю? Это судьба, - сказала она.
Он взял ее лицо в свои ладони и глубоко посмотрел Марусе в глаза.
- Тогда будь моей невестой.
- Почему невестой? Мы будем мужем и женою. Даже тогда, когда будем далеко
69
один от другого. Это ничего, что мы не венчаны.
- Придет время – повенчаемся, - сказал он.
- А у тебя... было уже такое?
- Нет.
- И ты никого не любил? Если соврешь, я почувствую.
- Это было один раз.
Он рассказал ей про панночку Жолю. Она была на несколько лет старше его, но так нравилась Мирону, что он хотел, чтобы у нее сгорела хата. Товарищество “Сокол” занималось не только спортивными тренировками, но и боролось с пожарами. Если бы загорелась хата с соломенной крышей, в которой жила панночка Жолю, то он, Мирон, первым бы бросился на помощь и на руках вынес бы Жолю из огня, не обращая внимания на то, что она была очень пышная в теле. Однако под соломенной крышей хата никак не хотела гореть, а Мирон был заведомо порядочным парнем, чтобы поджечь ее самому. Поэтому Жолю вскоре вышла замуж за другого. Когда она поехала со своим нотариусом аж в Видню, Мирону хотелось плакать. Тогда ему было тринадцать лет, он уже усердно занимался тренировками и постоянно ходил с разбитым носом и синяками под глазами. Кому такой кавалер понравится?
- Ты злодей, - сказала Маруся.
- Но какой же я злодей? Даже не намеревался сжечь эту хату.
- Ты зажег... мою.
Маруся радовалась его мощному, широкому в грудях телу, которое при свете луны было отлито как будто из меди.
Маруся никак не могла понять, почему обнаженный мужчина кажется больше, чем одетый, тогда как голая женщина, наоборот, кажется меньше. Так, ночью все кажется большим – и люди, и кони, и деревья. Не только на расстоянии в темноте. А тут он лежит возле нее, и был такой большой, что Маруся могла спрятаться у него под мышкой. Она так и сделала и, вдыхая терпкий запах его кожи, думала, что нет ничего важнее непотревоженного покоя в человеческом теле. Его смуглая рука на ее белых грудях казалась черной, как у мавра.
Маруся всем своим существом прислушивалась к прикосновениям этой руки, от которых в ее лоне пробегало нарастающее желание.
- Я люблю тебя, - сказал она. – Помни об этом всегда. Особенно, когда будет тяжело.
- Я и так вспоминаю о тебе ежеминутно.
- У нас впереди много случайностей и опасностей. Возможно, сейчас об этом не нужно говорить, однако, я тебя прошу, ты в трудную минуту вспоминай меня. Может так случится, что мы долго не будем видеться. Но я тебя буду чувствовать и на расстоянии. Вот возьми, - Маруся положила в его ладонь небольшой камушек величиной с воробьиное яйцо коричневого цвета с золотыми полосками. В нем, кроме коричневого и золотого, вспыхивали синие, красные, зеленые искры. - Это соколиный глаз, - сказала она. – Я нашла его на Девич-горе, где когда-то было языческое поселение. Это спаситель, он имеет магическую силу. Еще волхвам помогал видеть в темноте и достигать задуманного.
- Соколиный глаз? – переспросил Мирон, невольно вспоминая ее фамилию. – Так
70
называется этот камушек?
- Именно так. Бывает еще тигровый глаз, а это соколиный. Чувствуешь, какой он теплый?
- Чувствую.
- Этот защитник уменьшит риск. Когда почувствуешь, что он холодный и тяжелый, тогда берегись.
Соколиный глаз смотрел на него из ладони, но дело в том, что он не видел никакого колдовства в том, что говорила Маруся. Это так создано природой, что подаренный тебе камушек набирает силу защиты, так как становится частью твоей памяти, и отныне постоянно будет напоминать о том, кто подарил тебе этого защитника, и защищать от случайности. Камушек смотрел из ладони Мирона золотыми прожилками и разноцветными цветочками. Он был легкий и теплый.
- Я люблю тебя, - сказал он.
Маруся обняла его, но в ее объятиях было больше неловкости, чем страсти.
IV
В Марусе все-таки было что-то колдовское. Именно благодаря своему чутью, она много чего видела наперед. Мирон в этом убедился уже следующим утром, когда пришла команда готовиться к выступлению, и 1-ый Галицкий корпус подтянулся на свои позиции. Завтра на рассвете должен начаться штурм Киева. Отдавая распоряжения поручику Горняку, Осип Бачинский, как бы между прочим, выразил сожаление, что повстанцы дальше с ними не пойдут.
- Как... не пойдут?
- Приказ главного штаба, - сказал Бачинский. – Киев будут брать только регулярные войска. – Подергав себя за правый ус, он попросил Мирона, чтобы тот сам передал это Марусе.
Мирон взял коня и поехал. Стояла теплая погода, выдался золотой день, и ему стало так тоскливо, что даже конь под ним остановился, и так бывает, когда наездник засыпает или забывает за повод. Мирон нашел в кармане соколиный глаз – он был холодным. Чем ближе он подъезжал к той хате, где остановилась Маруся, тем более тяжелым становилось его сердце. Возле двора Мирон соскочил с коня и задернул повод за столбик ворот. Не заметив никого, ни во дворе, ни на веранде, где прошлый раз стоял часовым Василий Матияш, Мирон подумал, что Маруся снова подалась куда-то “развлекаться”.
До повстанческого лагеря Мирон погнал коня галопом, но и там под лесом не увидел ни одной души. Только теперь ему пришло на ум, что Маруся раньше его узнала о решении главного штаба и подалась гулять по собственному усмотрению. Подалась к Ангелу, или к Зеленому, не попрощавшись... Мирон отыскал в кармане холодный камушек, чувствуя, как новая печаль коснулась сердца. Мирон понял, что вчера Маруся с ним попрощалась.
71
Глава седьмая
I
На рассвете, в пятом часу, вероятно, узнав о штурме украинской армии, красные первыми пошли в контрнаступление. Ударили пушки, разорвались в небе шрапнели, завязалась страшная битва по всему фронту. Тяжелее всего доставалось Запорожскому корпусу, так как большевики большими силами придавили его на лини речки Стучна. Полковник Владимир Сальский, который командовал запорожцами, отошел назад, хладнокровно выждал, пока москали на радостях забегут в береговые болота, а потом ударил так, что Стучна застонала, как стонала она во времена, когда на нее навалилась татарва. За что и нарекли ее речкой Стучна. Запорожцы, разозлившись, что вначале пришлось отступать, теперь косили большевиков из пулеметов, размахивали саблями, красные и не знали, в какую сторону прятаться. Кое-кто из них бросился в речку, находя там свой последний отдых, а большинство полегли на берегу, и кому суждено было выжить, тот не утонул. Несчастных вылавливали в прибрежных зарослях, в очеретах. Хитрые сразу бросали винтовку в болото и поднимали руки, надеясь на плен. Попало в плен семь тысяч вояк 12-ой советской армии. Симбирская бригада наступала между Глевахою и Гнативкою. Вначале дорога стелилась легко, бригада шла форсированным маршем, а перед Витой Поштовой дошло до рукопашного боя. Станимир отдал команду “Штыки!”, и это был тот момент, когда в тебе напрягается каждый мускул, а нервы натянуты до предела. Они чувствуются, натягиваются до острой боли, а потом трескаются, как конский волос, ты даже чувствуешь этот треск по всему телу и больше себе не принадлежишь. Ты забываешь тренировку рукопашного боя, забываешь все хитрые приемы штыкового нападения, забываешь, когда нужно разворачиваться, и все это остается где-то там, в предыдущей жизни, а сейчас тобой управляет только дикий инстинкт. Первый инстинкт борьбы моментально поглощает все мысли и ощущения, и ты готов, как зверь, зубами вцепиться в горло врага. Нечеловеческие крики, отборная российская ругань в бога-и-душу-мать слились в социальный элемент смерти, который то нарастал, то вдруг замирал до глухоты и до немой тиши. Мирон видел перекошенные лица стрельцов. Среди стрельцов он узнал нежного Михася Працива, который выжил в “мертвом пространстве” пушечного выстрела, уцелел на Замковой Горе в Львове, где он видел сына Ивана Франко, а теперь споткнулся, упал, оказавшись под штыком здоровенного разозленного москаля. Мирон успел наколоть этого москаля на штык, и непонятно, как ему удалось, и откуда взялась та сила, что он его еще саженей пять тащил по земле на штыке, как будто бы хотел оттянуть его как можно дальше от Михася, пока тот придет в себя.
После Виты Поштовой было уже легче, хотя теплый воздух от мимо пролетающих пуль касался Мироновых щек. Стрельцы бежали убранным полем по белой стерне, где горела соломенная скирда, густой желтый дым затягивал дороги, выедал и так уже выпаленные легкие, как вдруг перед Мироном из-под его ног взлетела группка воробьев,
72
которые клевали рассыпанное в стерне зерно, да, война войною, а жизнь брала свое.
Стрельба стихала, на землю опускался вечер, заходящее солнце пронизывало пелену дыма, било в глаза кровавым блеском. В восьмом часу вечера они вошли в Киев.
8-ая Симбирская бригада заняла Демиевку и захватила станцию, которую галичане называли “грузовой дворец”. Все пути тут были загромождены эшелонами со всяким добром, которым можно было одеть, обуть и вооружить не один галицкий корпус, однако, никто не порывался на такое добро. Стрельцы толпились только там, где среди других эшелонов застряли большевистские броневики. Хотелось рассмотреть эти грозные машины, которые не смогли выехать из Киева и так легко попали им в руки. Один пленный хохол-большевик с расплющенным носом, как будто ему конь наступил копытом на переносицу, пояснил, что все это из-за комиссаров, которые в панике подперли бронепоезд своими вагонами с награбленным золотом.
- Вы поищите, поищите, там хватит по золотому кольцу и часикам на каждого из вас, - подстрекал галичан этот хитрый хохол, словно надеялся, что они возьмут его к себе в советники. Ну, и повели его со всеми пленными кормить вшей, а он, однако, еще просился переговорить с паном старшиною. Под паном старшиною он имел в виду коменданта 2-го куреня Бачинского, который не имел времени на пустые разговоры, хотя и был в добром настроении.
Этот день, 30-го августа, выдался светлым в жизни Бачинского, а завтрашний обещал быть еще лучше. Его стрельцы осадили Демиевку и грузовой двор, но еще не видели настоящего золотоверхого Киева. Завтра, завтра... Киев будет в их руках! Он уже назначил комендантом города полковника Осипа Макияша.
Только далеко за полночь Бачинский прилег в станционной комнате, чтобы поспать какой-то час, но тут принесли телеграмму с приказом от корпусного штаба. Приказ извещал, что 31-го августа, в девять утра состоится парадный въезд Симона Петлюры в Киев. Для встречи и почтения Главного Атамана все бригады 3-го корпуса обязаны выслать на главный плац по одному наилучшему куреню и по одной батарее для формирования сборной парадной бригады. Комендантом почетной бригады назначается он, сотник Бачинский, который должен прибыть в корпусный штаб. Осип еще не успел обдумать этот приказ, как пришел новый, который отменял первый и требовал, чтобы он, сотник Бачинский, должен прибыть со своим куренем в пятом часу утра на главную железнодорожную площадь.
Карманные часы показывали двадцать минут четвертого. Время поднимать стрельцов. Бачинский вышел из станционного зала, слабо освещенного через окно уличным фонарем. Хлопцы спали, кто, где упал, некоторые на лавках, некоторые на подоконниках, а большинство лежали покотом на полу. Под стеною Бачинский увидел в странной позе Мирона Горняка. Тот скрутился калачиком, подложив одну руку под щеку, а другую держал в кармане. На его лице бродила сонная улыбка. “Присмотрите за ним, Василь, он такой неуважительный у меня”, - Бачинский вспомнил слова матери Горняка, когда они были вдвоем у него в гостях. Потом Бачинский переключился на парад. “Надо же, - подумал он, - волей Провидения парад запланирован на Святую неделю. Интересно, Главный Атаман на параде будет на белом коне или на автомобиле”.
73
II
Стрельцы шли вдоль железнодорожных путей, мимо бесконечных рядов товарных вагонов, на которых даже в слабом свете станционных огней можно было прочитать много надписей. Каждый вагон был как отдельная страница вселенской книги, которую писали многие люди.
В пятом часу утра они были на киевской главной площади. Не считаясь с таким ранним временем, на площади сновало множество военных. Возле центрального входа стояло два легковых автомобиля с открытым верхом. Штаб корпуса размещался в пассажирском салоне первого класса, где было шумно. Одни заходили, другие выходили – двери не закрывались. Василий отправился к коменданту их корпуса полковнику Вольфу. Арнольд Вольф заменял на этой должности Антона Кравса после того, как тот возглавил Центральную армейскую группу. Австриец Вольф хорошо понимал украинский язык, но говорил на нем не всегда. На немецком языке он пояснил Бачинскому, что случилось то, чего больше всего боялись. С левого берега Днепра к Киеву подходят деникинцы. Они уже в Дарнице, обложили с той стороны пешеходный и железнодорожный мосты, готовятся войти в Киев.
- Поэтому торжественная встреча Главного Атамана отменяется, - сказал полковник Вольф. - Встрече теперь не время.
- А как же?.. – хотел спросить Бачинский, но полковник его опередил:
- Главный Атаман отменил свой приказ. Он уже знает, что деникинцы в Киеве. Сейчас мы ждем генерала Кравса. Он где-то застрял на железной дороге.
Пока полковник сомнительно кивал головой, приехал начальник штаба 1-го корпуса майор Куниш и привез новые распоряжения о том, что нужно немедленно взять под охрану наиболее важные объекты города.
- Вашему куреню, пане сотник, - майор Куниш посмотрел на Бачинского красными от бессонницы глазами, - принадлежит особый участок. Вы должны окружить городскую Думу и главную почту.
- Окружить, но не стрелять, - сказал на немецком языке полковник Вольф.
- Не понимаю, - вопросительно посмотрел на него Бачинский.
- Это не мой приказ, - развел руками полковник.
- Как можно охранять объект с такими условиями? Так может нам и вооружение не брать с собой?
- Таково решение главного штаба, - сказал полковник Вольф. – Будет по-другому, тогда и действовать будете по-другому.
- А пока что в случае встречи с деникинцами должны вести переговоры, - пояснил майор Куниш, моргая красными, как у кролика, глазами.
- Переговорить о чем? – спросил Бачинский.
- Искать согласия, чтобы они оставались на своих позициях, а мы на своих, - сказал майор Куниш. - До конечного согласования положения на высшем командном уровне.
- Окружить, но не стрелять, - кисло улыбнулся полковник Вольф. – Выполняйте приказ, пане сотник.
74
III
Бессарабский рынок уже седьмой год стоял среди Киева, а такого гула не видел. Случилось это вскоре после того, как под его крышу зашел человек в соломенной шляпе и вышитой белой рубашке. Никто из торгующих не мог и подумать, что этот сухой хлопец разрисовал фасад Бессарабки росписью: “Селянин с быками”. Он же Алексей Тюремец, недавний ученик киевского художественного училища, еще установил железных гусей на главных воротах крытого рынка. Было... Было, но прошло – тяжелая болезнь высушила силу Алексея, и он от того не мог пойти в украинское войско. С завистью смотрел он на каждого стрельца.
На рынок Алексей заскочил купить цветы, но здесь уже не было ни веточки. Раздосадованный Алексей двинулся к выходу, но тут базарный шум затих и все головы в платках, картузах, шляпах, простоволосые повернули в сторону ворот, на которых сидели Алексеевы железные гуси. Ах!!! На рынок важно въехала на белом коне юная девушка, одетая по-казацки и в папахе с красным шлыком, в сапогах с острогами. За спиной у нее висел карабин, при поясе была кобура с револьвером, из-под папахи на плечо свисала золотая коса. Чудо казачку сопровождали трое гордых всадников, которые сверху поглядывали на торговцев, обложенных разными хозяйственными сундуками. Девушка также присматривалась к людям и товару. Один сельский дядько, которому чуть не влетела в рот муха, вдруг снял с головы шляпу, низко поклонился и крикнул громко так, что его услышала вся Бессарабка:
- Здоровы булы, пани Маруся!
- И вы будьте здоровы, с воскресением! – поздоровалась девушка.
- Маруся... руся-ся, - прошелестело рядами, и все мужчины сняли с голов шапки, фуражки, шляпы.
Алексей Тюремец, собрав в руке шляпу, подошел ближе к всадникам и спросил дрожащим от волнения голосом:
- Вы пани Маруся?
- Да, – она так любезно ему улыбнулась, что у Алексея перехватило дыхание. Он зашелся сухим сдавленным кашлем.
Девушка вежливо ожидала, когда он сможет говорить. И Алексей Тюремец, наконец, спросил:
- Когда же засветится украинская булава?
Она смотрела на него с теплой улыбкой.
- Тогда, - сказала уважительно, - когда мы поднимем ее к солнцу.
Девушка с казаками так же важно выехала с рынка. Алексей Тюремец выбежал за ними вслед.
Напротив Бессарабки стояла еще сотня всадников. Алексей думал, что они поедут Крещатиком к городскому правлению. Но нет, девушка повела казачков Бибикивским бульваром вверх. Алексей провожал их взглядом, пока всадники не исчезли с его глаз.
75
Глава восьмая
I
Все галичане, которые находились на охране городской Думы, были арестованы деникинцами. Пленных, как стадо овец, перегнали через цепной мост на левый берег Днепра в Дарницу и довели до железнодорожной станции, возле которой находились старые летние бараки. Эти деревянные бараки остались еще ли не с петровских времен, когда-то тут была станица для временного удержания разных острожников и переселенцев. Сюда и загнали стрельцов и старшин, которых захватили в плен. Положение было унизительное, но не такое страшное, как кое-кто ожидал, так как со временем они назовут это “почетным пленом”. Почетным потому, что галичане стали первыми военнопленными деникинцев, которые не знали, как с ними обращаться. Захваченных большевиков они сразу расстреливали, жалели только тех, кто переходил на их сторону. С галичанами было другое. По договору Кравса и Бродова их всех должны были отпустить, но деникинцы “забыли”, или решили подождать, как оно дальше сложится с этими “союзниками”. Пленных держали за колючей проволокой, но режим был не из плохих – они свободно передвигались по лагерю, днем ходили на разные работы под охраной нескольких конвоиров, от которых не трудно было и убежать. Но никто не знал, куда бежать. По оба берега Днепра стояли белогвардейцы, галицкие корпуса откатились за демаркационную линию аж до Попильни, Сквиры и Козятина. Пробираться к своим можно было маленькими группами по три-четыре человека, имея надежных проводников, которые показали бы “тропу” через Днепр и дальше на Запад. Однако “свои люди” из киевского подполья передали, что бежать сейчас не нужно, так как наши войска снова вернутся в Киев, и тогда пленные, вооружившись с помощью повстанцев, ударят вместе с ними по врагу с тыла. То есть терпите, пока терпится. Не так, как всем, терпелось Мирону Горняку. Он был поручик, и его закрыли отдельно от всех в каком-то сарае с маленьким, как ладонь, оконцем, и надели на него старые ржавые кандалы, которые, вероятно, носил еще Кармелюк. Или, может, они тут остались от какого-то столетнего варнака, который, бедный, умер в плену, так как таких кандалов Мирон еще не видел.
Толстая цепь, массивный обод, железная колодка, замок, который открывался большим ключом. В этих кандалах Мирон еле передвигал ногами. На работу его с такими доспехами не выгоняли, но из сарая Мирон выходил, когда хотел. Далеко кандалы не волочил, садился на выступающую колодку, что лежала тут, вероятно, еще от тех таки петровских времен, и смотрел в сторону Днепра, которого не видно было за бараком, смотрел на ворота, где всегда крутились часовые в красных погонах. От северной стороны лагеря за полверсты начинался сосновый лес, он манил взгляд и навевал появление мыслей о побеге. Недалеко от бараков, за длинными сараями, находилась дарницкая железнодорожная станция, по которой проезжали чужие эшелоны, и тогда Миронов сарайчик, как и все деревянные строения, стоящие на песчаном грунте, трясло от
76
землетрясения, и казалось, он вот-вот развалится. Вечерами к Мирону часто подходили стрельцы или кто-то из старшин, пытались облегчить хотя бы словами его жизнь в плену. Галичане - вчерашние победители не поняли, как стали побежденными, и теперь даже не знали, что с их армией, где она и с кем воюет. Знали только, что галицкие корпуса покатились к Фастову и дальше, как будто бы снова стоят против красных, которые подошли от Одессы. Но все это доходило до них со всякими слухами, которые заносили в их лагерь только цыгане. Это кочевое племя приезжало сюда на кибитках подковывать деникинских коней, и рассказывали пленным, что творится в мире. Но, ни цыгане, ни сорока на хвосте добрых слухов не приносили.
Лагерь уже продувал осенний ветер, который срывал тучи песчаной пыли, которая скрипела на зубах и выедала глаза. Дарница лежала на береговых песках, которыми и без того колобродил ветер, и все было серо от песчаной пыли, и бараки, и люди, и их одежда и лица. Соколиный глаз в Мироновом кармане был холодным, как и все вокруг, пронизанное сильным осенним холодом. Однажды вечером в сумерках к Мирону подошел, словно тень, Петро Гультайчук. Он и так был худой, а тут высох до щепки, хотя кормили их овсяной баландой наполовину с остями, чтобы были здоровы, как лошади. Петро тихо сел на краешек кладки подальше от Мирона. У него и теперь на одной ноге был ботинок, а на другой сапог с отрезанным голенищем. Не успел бедолага обуться в комиссарские сапоги, хотя такого добра в захваченных большевистских эшелонах достаточно было не на один галицкий корпус
- Извините, пане поручику, что не сажусь ближе, - сказал он виновато. – Нас в бараке, извиняюсь, доедают вши, а у вас, может, их и нет. Но я не про это, - перешел на шепот Гультайчук. – Хотел вас просить, чтобы не падали духом. Мы с Михасем Працивым дали себе слово: когда будем бежать, вынесем вас на руках.
- Благодарю, - сказал Мирон. – Но если представится случай, бегите без меня.
Гультайчук вздохнул громче, чем говорил:
- Боже, как я себя тешил, когда мы войдем в Киев, что война кончится, а чем все окончилось? Нельзя человеку так сильно радоваться. Тогда и печали будет меньше. Это я заметил давно. Но не падайте духом, пане поручик.
Гультайчук поднялся, и так тихо вышел из барака, как будто бы он не касался земли. Однажды к Мирону подсел деникинец в красных погонах, с которым Горняк подрался в ходе своего ареста, и сказал, что не держит на него зла, хотя тот поручик был из враждебной ему армии. Он снял бы с Мирона кандалы, если бы он при людях попросил у него прощения и пообещал, что больше не будет распускать руки. Деникинец был сильный, широкий в плечах, но с лица добродушный, и из-за полных румяных щек он даже был похож на веселую девку. Теперь все они были веселыми, так как Добровольческая армия уверенно шла на Москву, генерал Мамонтов уже взял Воронеж. “Вот как разобьем Петлюру, - сказал “бык”, - то отпустим вас домой, потом отобьем Галичину у поляков, и вы будете наши. Чего же нам ссориться?” Мирон молчал и смотрел себе под ноги, так как возле щиколотки кандалы натерли красные рубцы.
- Умный ты, галичанин, - сказал деникинец, - но смотри, веди себя смирно, тогда доживешь до счастливых времен. И если не попросишь у меня прощения, то мне придется смыть свой позор кровью.
77
Прошел месяц плена, который Мирону показался как год. Холода усиливались, а пленные не имели теплой одежды, бараки не отапливали, холод донимал и днем, и ночью. Стрельцы начали болеть. Уполномоченные от старшин пошли жаловаться коменданту
лагеря Осликовскому на их “собачье содержание”. Полковник Осликовский их “успокоил” тем, что в начале октября всех пленных переведут на угольные шахты Донбасса. Там вас и оденут теплее, и обуют, и от вшей избавят. Стало понятно, что нужно как можно быстрее бежать. Хорунжий Василь Гречаник попросил коменданта, чтобы с пленного Горняка сняли кандалы.
- Это же военный плен, а не средневековая каторга, - сказал Гречаник.
Полковник Осликовский ответил, что этот пленный Мирон Горняк нанес белогвардейцу тяжелые телесные побои в ходе его пленения, за что он мог получить наказание значительно суровее. Но он подумает, как облегчить судьбу невольника. Представители пошли к старшинскому бараку с одной мыслью: бежать. Поднялись глубокой ночью и выход видели только один, что кто-то из них должен добраться до Триполья, столицы атамана Зеленого и попросить его, чтобы дал беглецам проводников и немного вооруженных людей. До Триполья было и далеко, и не далеко, верст сорок пять, зато дорогу туда показывает сам Днепр, и если идти его берегом вниз за течением, то через несколько часов увидишь на противоположной стороне трипольские кручи. Кто пойдет к атаману? Все посмотрели на хорунжего Романа Зеленого, и решили, что, кому же, как не ему, идти к батьке-атаману с такой челобитной. Зеленый Зеленому не откажет. Хорунжий поблагодарил товарищество за честь. Идти с ним в Триполье еще согласился и Василь Гречаник, который, оказалось, давно запасся кусачками, и той же ночью они двинулись в дорогу. В ограждении с колючей проволокой прорезали кусачками аккуратный лаз, который и днем никто не заметит. Старшины ничего не говорили стрельцам, которые жили в отдельных бараках. Они решили не делать огласки о побеге, пока не вернется посланец от атамана Зеленого и не скажет, как действовать дальше. Ждали их возвращения, как на иголках, так как всякое могло подстеречь гонцов в дороге. Но через два дня Зеленый и Гречаник вернулись. Пришли в старшинский барак снова-таки среди ночи и сказали, что батька-атаман сделает все, что нужно. Послезавтра вечером все должны быть наготове, к ним вышлют не только проводников, но и охрану.
- Но вы видели самого атаман Зеленого? – с недоверием спросил старший десятник Орест Присяжнюк.
- А мы к кому ходили? – недовольно глянул на него Гречаник.
- Ну, так... А какой он?
- Кто? – спросил Гречаник, как будто бы не знал, о ком разговор.
- Ну, атаман.
- Простой сельский хлопец, - сказал Гречаник. – Встретил нас босой...
- Босой? – удивленно переспросил Присяжнюк.
- Но!.. Босой и с закатанными до колен калошами... сам чернявый, а усы рыжие. Говорит, что тянет руку за Петлюру в борьбе за свободу Украины, но чхать хотел на игры с деникинцами. Говорил, что пускал из них “юшку” уже в девяти боях.
- Ничего себе, простой хлопец! – дальше удивлялся Орест Присяжнюк.
- Зеленый запретил селянам возить в Киев хлеб на продажу, - сказал Гречаник.
78
- Глаза у него ласковые, - дополнил хорунжий Зеленый. – Но моментами, как посмотрит на тебя, то, как будто бы насквозь прошьет. Что вы хотите – держит он под рукой целую дивизию. Мудрый как змей.
То, что атаман мудрый, были видно из того, что назначил он операцию на субботу, как будто бы знал заведенные лагерные порядки. Комендант, полковник Осликовский, каждую субботу отъезжал в Киев и возвращался в воскресенье вечером или в понедельник утром. Лагерная охрана, пользуясь таким случаем, пьянствовала до умопомрачения. Только в субботу вечером сотенные сказали стрельцам, чтобы все подготовились, через час бежим. Петру Гультайчуку и Михасю Прациву по их просьбе было доверено обеспечить побег поручику Горняку.
Все играло им на руку: выпала темная ночь, деникинцы пьянствовали в своем жилье, лишь только трое стрельцов охраняли продуктовые склады, и еще двое патрулировали территорию. На особом внимании у них были ворота. Но бежать через ворота никто не собирался. Для побега свои ворота были сделаны в проволочном ограждении с северной стороны от леса. Именно в лесу беглецов должны были ждать люди Зеленого. В лагерь еще должен был зайти мобилизованный из украинцев деникинец, который тайно работал на атамана и подать сигнал для побега.
Около семи часов вечера случилось непредвиденное. К бараку, где размещалась третья сотня, неожиданно подошел конвой и погнал стрельцов на станцию разгружать вагоны. Переносить побег не было смысла, так как также нежданно-негаданно их могли когда-нибудь погнать к поездам и отправить на Донбасс. Сторожа пьянствовали, однако охрана возле продуктовых складов находилась на месте. Правда, они хорошо выпили и теперь, стуча ложками, выгребли из консервных банок сладкий перец, который пленные сегодня утром разгружали из товарных вагонов. Все добро, которое Антанта когда-то обещала украинской армии, теперь эшелонами шло белогвардейцам – от пушек, мундиров и лекарств до сладкого перца.
Наконец, в барак старшины зашел молоденький “деникинец”, которого охрана на воротах даже не спросила, куда он идет. Парнишка больше был похож на гимназиста, чем на военного. К хорунжему подошел Зеленый и шепнул, что пора. В девятом часу вечера сотни начали потихоньку оставлять бараки. По трое-четверо стрельцы подходили к условленному месту, где стоял хорунжий Гречаник и показывал тропинку “до ворот” между колючим проводом. По другую сторону ограждения возле двери их ожидал Роман Зеленый, а еще дальше их поджидал молоденький “деникинец”.
За какие-то полчаса из лагеря выскользнули все пленные, кроме тех, которых повели на станцию разгружать вагоны.
Беглецы гуськом подались к лесу вслед за “деникинцем”. Бежать песком было тяжело, зато не слышно топота.
Возле лаза задержался только хорунжий Зеленый, ждал еще троих. В темноте он уже выдавил все глаза, но никого не видел. Вдруг возле бараков блеснул огонь, за ним послышался выстрел. У Зеленого что-то надорвалось внутри, он аж присел. Беда! Горе коснулось Петра Гультайчука, Михася Працива и поручика Горняка, которого они вдвоем выносили из лагеря. Так вышло, что эти трое отходили последними, так как Мирон долго отказывался, говорил, что из-за него они погубят не только себя, но и весь курень. Вы
79
бегите, просил Мирон, а я потом выкручусь, но стрельцы не подчинялись поручику. Закинули его руки себе за шею и, сколько было сил, побежали к лазу. Откуда ни возьмись, появился деникинец, который спросонья искал или ветер, или вчерашний день, но,
услышав стук кандалов, с перепугу выстрелил во тьму. На его выстрелы пьяная охрана выскочила из помещения, подняли шум и бросились в ту сторону, куда показывал деникинец. В темноте они ничего не видели, но приблизились к беглецам, которые только добежали к лазу и упали на землю под колючей проволокой. За шаг до свободы попали в безвыходное положение. Сорваться и бежать дальше, не было возможности, так как их увидели бы и догнали (теперь Мироновы кандалы задержали всех), или просто перестреляли бы, чтобы не иметь лишних хлопот. Поэтому не оставалось ничего другого, как лежать в лазе и надеяться, что их тут не найдут.
Стрельцы приближались. Хорунжий Зеленый также лег на землю, хотя знал, что нужно бежать. Пусть тебя догоняют пули, однако нужно бежать, куда глаза глядят. И тогда, когда они все четверо должны подчиниться злой судьбе, случилось что-то такое, что вначале никто не мог себе объяснить, кроме Мирона Горняка. Он, Мирон, оттолкнувшись обеими руками от земли, резко отполз назад и клубком покатился под проволочным ограждением подальше от лаза. Стиснув в руках цепь, чтобы она не бряцала, Мирон катился так быстро, что за минуту-другую стрельцы уже не видели его в темноте, а несколько позже услышали бряцание кандалов сажень за семьдесят. Стража бросилась в ту сторону, снова послышались выстрелы, и только тут хорунжий Зеленый понял, что поручик Горняк отвел от них преследователей. Можно было подниматься на ноги и бежать к лесу, но что-то держало их тут, они не могли двинуться с места.
Петро Гультайчук с Михасем Працивым подняли головы и внимательно смотрели туда, где пропал Мирон Горняк, и где уже вспыхивали винтовочные выстрелы. Как? Как же им теперь бежать без поручика, если они сами присягнули, что вынесут его на руках?
- Нет на то совета, - сказал хорунжий Зеленый. – Вынуждены отходить.
Петро Гультайчук в горячке поцарапал лицо о колючую проволоку, но даже не слышал, что по его щеке стекает кровь. Тяжелым шагом пошли они в сторону леса, постоянно оборачиваясь на то место, где, собравшись в круг, ругались деникинцы. Снова ударили выстрелы, и на этот раз беглецам показалось, что деникинцы стреляют уже не в воздух.
Глава девятая
I
Приехавшие на атаманский съезд перекусывали на лесной поляне, так как просторная хата лесника Помазана оказалась тесной для такого важного товарищества. До того Ангел пошутил, что когда все закурят в хате, то дым сможет поднять потолок. Редко какой атаманский съезд собирал вместе столько партизанских вожаков, как собрал их на этот раз возле Германовки. Один за другим прибывали с охраной Ангел, Бугай, Лихо, Пята, Голуб, Шум. Атаман повстанческой Добровольческой дивизии Зеленый, который в это самое время подался к Каменцу на встречу с Петлюрой, прислал вместо себя командира его 2-го полка Василия Дьякова. И, наконец, кое-кто глазам своим не верил – приехала на белом коне в сопровождении трех казаков атаманша Маруся. До этого с ней встречался только Евгений Ангел, хотя Маруся “гуляла” от Радомышля аж до Ружина, и атаманы наслышались о ней уже не один мешок сказок, которым мало верили. А как можно верить, если даже важная житомирская газета “Громадянин” писала про Марусю, что эта селянка пешком пришла из далекого полеского села в Житомир и попросилась в штаб Галицийского корпуса, чтобы собственными глазами “увидеть работу военного мозга”, то есть штаба.
Одуреть можно! Другой газетер “прыгнул” еще выше – он писал, что на месте погибшего атамана Соколовского атаманшей стала его верная жена Мария. Боясь, что враг поглумится над ее мертвым мужем, она возит его тело с собой, зарывая в землю только на некоторое время, когда доводится отдыхать между боями. Но когда атаманша шла в наступление, она снова отрывала своего мертвого мужа и брала его на тачанку. Вот же выходит так, что “славный атаман Соколовский продолжал воевать с большевиками даже после смерти”, - пафосно коротко заканчивал статью борзописец, вероятно, не выходя из редакции дальше житомирской ресторации. Селяне в окрестностях больше шептались о Марусиной “скорби”, про несколько возов золота, которые она, остановив секретный поезд, отобрала у большевистских командиров и хранит в лесу. Шумели также, что Маруся колдунья, потому и не берет ее пуля. Однажды возле Латаевки атаманша все же попала в лапы большевиков. Красный командир хотел порешить ее собственноручно, но когда выстрелил в Марусю из револьвера, она выставила вперед ладонь и отвела пулю. Одни говорили, отвела, другие утверждали, что Маруся ее поймала, но потом, когда раскрыла ладонь, оказалось, что в руке у нее не пуля, а желудь. Разозленный комиссар поставил против атаманши целый отряд солдат, те навели винтовки, комиссар подал знак, но Маруся даже не пошевелилась. И тут уже одни говорили, что солдаты, увидев перед собой красавицу, умышленно стреляли мимо, другие утверждали, что нет, это Маруся так посмотрела им в глаза, что у каждого дрогнула рука. Придя в недоумение, комиссар приказал связать Марусю колодезной веревкой и бросить в холодную яму, чтобы придумать ей как можно более тяжелую кару – возможно, сжечь на костре, как это в старину делали с ведьмами. Но когда утром он спустился в каменный погреб, Маруси там
81
не было. С потолка свисала петля от той веревки, которой вчера по рукам и ногам связали атаманшу и, остолбенев, комиссар сам полез в петлю... Ходил слух, что Маруся чернокнижница, что она знает магию старых волхвов, делает их ведические обряды, поэтому она владеет такой чудодейственной силой, какой не имеет ни одна ведьма. Но так говорил тот, кто не знал, что это дитя выросло в церкви, и было ближе к Богу, чем другие. Бывалые атаманы, которые относились к этим рассказам с недоверчиво-благодарной улыбкой, теперь ели Марусю глазами, не пряча своего интереса и добродушного удивления – перед ними была не суровая ведьма-язычница, какой они представляли Марусю, а простая веснушчатая девушка, и даже не дебелая боевая молодица, а настолько легкая, что и конь не чувствовал ее под собой. Жеребец был настоящий, тут ничего не скажешь, а наездница – только и того, что одета по-казацки: в папахе, зеленой чумарке, в сапогах с “острогами”, не хватало только сабли. Но вместо сабли на поясе у нее висел австрийский штык с золотой ручкой – и по этому штыку с тесьмой на ручке бывалые атаманы имели возможность понять, что Маруся подружилась с галичанами. Она также посматривала на них с нескрываемым интересом, слыша раньше про Бугая, Лихо, Пяту, меньше про Голуба и Шума и совсем ничего не знала про Дьякова, который и здесь держался особо, замкнуто, молчал, как немой. Хотя Дьяков был среди них самый старший, переступил за тридцатку, но его костлявое, темное от щетины лицо сковало холодное безразличие, он не ввязывался в разговор, губы его были стиснуты как у мертвеца. Позже, когда он, наконец, отозвался, оказалось, что Дьяков россиянин, и Маруся подумала, что он стыдится разговаривать с ними по-московски, поэтому и молчит, как безъязыкий. Тогда она еще не знала, что уральца Василия Дьякова привез в свой край Данило Терпило, который со временем стал атаманом Зеленым. Под конец Мировой войны они подружились на Западном фронте, где штабной писарь Терпило занимался украинизацией Путивльского полка – и так успешно, что привез на Обуховщину уральца Василия Дьякова бороться с большевиками. Возглавив в Днепровской дивизии полк, Дьяков получил такую громкую славу, что на него началась охота киевского чека. Дикой была эта охота. Чекисты дошли даже до того, что его жену с маленькой дочерью, которые жили на краю России, привезли в Киев. Они посадили их в Лукьяновскую тюрьму, чтобы взять на крючок атамана. Узнав об этом, Дьяков начал ломать голову, как освободить родных из неволи. Он договорился со своими людьми о подкупе надзирателя, который мог помочь заключенным выскользнуть за тюремные стены. Однако операция не удалась – во время побега жена и дочь Василия Дьякова были убиты. Чекисты на этом не успокоились. Они отрубили головы жене и ребенку и послали их атаману Дьякову в подарочном ящике из красного дерева. Там была еще записка: “Изменнику от его верной любовницы смерти”. Дьяков хотел застрелиться, но в последнюю минуту остановила мысль: “А кто отомстит?”. И теперь месть стала его работой. Дьяков сделался таким жестоким, что его карательные операции наводили страх даже на своих. Однажды поймав чекистку Азу из Ржищева, которая взяла себе агентурное прозвище Амазонка, Дьяков отрезал ей правую грудь – он где-то читал, что такое делали амазонки, чтобы сиська не мешала стрелять из лука. Атаман Зеленый пытался обуздать Дьякова, ругал его, грозился расстрелять, но уральцу были безразличны и угрозы, и смерть. У него в мыслях было одно. Зеленый много чего прощал атаману, вспоминая о ящике с отрезанными
82
головами его жены и ребенка, присланных ему. Полк атамана Дьякова на самом деле был небольшим летучим отрядом, который воевал на крутых “тачанках”, которые придумал сам Дьяков. Это были возы-халабуды, похожие на цыганские кибитки – в них партизаны маскировали пулеметы и даже легкие пушки. Французская полуторадюймовая пушчонка “мартин” также размещалась на крепко сделанном возе, как и тяжелые пулеметы “максим” или “кольт”. “Цыгане”, что сидели в халабудах, надвинув на глаза мятые фуражки с обвисшими ушами, ни у кого не вызывали беспокойств до тех пор, пока не начинали “ковать большевикам коней”.
В германовское лесничество Дьяков приехал верхом в седле, и его мало интересовал главный вопрос, ради которого собрались здесь атаманы. Их всех мучило, как себя повести с большим отрядом красного командира Несмиянова, который оторвал свой полк от 58-ой советской дивизии и стал против большевиков. На большом, как одеяло, полковом красном флаге, так и было написано: “Группа войск, восставших против коммунизма”. Почти две тысячи бойцов отказались идти на Восточный фронт против адмирала Колчака, двинули в самовольные походы и остановились в районе Сквиры. Их командир Несмиянов искал связи с партизанскими отрядами, чтобы создать общий фронт против “оголтелой деникинщины”. Это и сказали Ангелу представители Несмиянова, с которыми он встречался в Козятине.
- Не верю я этим кацапам, - крутил головой атаман Бугай, когда они уже перекусывали на поляне.
Лесник Помазан, праведная душа, постарался, чтобы на “столе” была крепкая, как огонь, сливянка, сало, печеная картошка, сырые яйца, лук, квашенина и дичина. В противном случае, какой из него лесник? Большой казан, только что снятый с огня, парил большими кусками тушеного мяса, и они доставали его руками, заедая окаянную, которую по очереди пили из медной кружки. Помазан принес несколько чарок, но атаманы пили из одной кружки, чтобы и мысль была одна.
Маруся от водки отказалась, никто ее не насиловал – такая юная, куда? – но Голуб уже причастился и, осмелев, сказал:
- Может, хоть губы помочила б, пани атаманша, если уже пристали до нашего товарищества?
- Это обязательно? – спросила она.
- Нам слаще будет чарка, - еще больше распустил перья Голуб, который был похож больше на петуха, чем на голубя.
- Тогда почему же только губы? Я с вами выпью, но не натощак, - Маруся взяла печеную бульбу и легонько ее раздавила, чтобы быстрее остыла.
- Тогда лучше начинать с мяса, - посоветовал Бугай.
- Я дичины не ем, - сказала Маруся.
- Напрасно. На бульбе далеко не заедешь.
Бугай выпил полкружки сливянки и, наяривая хороший кусок дикого козла, быстро покраснел от выпитого. Горилка она такая – кому вступает в ноги, а кому в лицо.
- Хоть убей, не верю я этим кацапам! – повторил Бугай, и все мимолетом
посмотрели исподлобья на Дьякова: не обиделся ли за “кацапов”?
Дьякову было безразлично. Он и дикого козла жевал лениво, неохотно, и сливянка
83
была для него, что та вода.
- Верить теперь никому не можно, - сказал Ангел. – В том числе и своим.
Он лежал на постеленной кавказской бурке, и был похож на кавказца. Загорелый, глаза смоляные, большие, и брови, которые сходились размашистыми крыльями. На атамане были теплые, толстые сапоги, снизу обшитые кожею, и Маруся подумала, что тут, на правом берегу, Ангел ночует больше по лесам, чем под крышею, потому и одевается тепло, по-зимнему.
- Хочу спросить у Маруси, кого можно считать своим? – спросил Ангел.
- Так то правда, что ее братьев Соколовских убили их адъютанты? – перебил Ангела Пята.
- Не каждому посчастливится погибнуть в бою, - ответила Маруся. – Многих убивают в спину.
- Но с Несмияновым нужно сойтись, - рассуждал вслух Ангел. – Посмотреть, чем он дышит, а там время покажет.
- Почему он хочет выступить против деникинцев? – спросила Маруся. - На флаге ж написано, что восстал против коммунизма. Или это просто для отвода глаз?
- В самом деле! – Ангел похвально посмотрел на нее агатовыми глазами.
- Нужно предложить ему сначала “поскубти” красных. Что он запоет? Если будет крутить хвостом, то лучше разоружить, - сказал Шум.
На щеке Шума, ниже лба, сидел глубокий косой шрам.
- Разоружить? – удивилась Маруся. – Пусть дальше гуляют под носом?
- Но мы еще не знаем, что там за войско, - пояснил Шум. – Может, там обдуренные хохлы, которым нужно вставить заклепку. А если обольшевиченная кацапня, то решение тут одно...
Все снова мимолетом глянули на Дьякова. Но ему были безразличны и хохлы, и кацапы. Он не встревал в разговор, так как еще вначале съезда он сказал, что все передаст Зеленому, пусть сам решает.
- Хорошо, - подытожил Ангел. – Начнем переговоры с Несмияновым, а там будет видно.
- Кто кого, - подкинул слово атаман Лихо и надбил верхушку яйца об кружку
- Инакше не бывает, - сказал Ангел.
Лихо вытянул трубочкой губы, одним движением втянул в себя содержимое яйца, а в пустую скорлупу нацедил из кружки горилки.
- О. так ты тоже колдун? – Пята удивился, как Лихо применил яйцо вместо чарки.
- Почему тоже?
Пята затих и посмотрел в сторону Маруси. Затем перевел взгляд на Ангела и заметил, что на последнем чистая белая рубашка, которая выглядывала из-под расстегнутого кителя. Казалось, что Ангел спал не в лесу, а в каком-то пансионате. Пята знал, что Ангел имеет свою пошивочную мастерскую, которая обшивает его казаков, но не за собой же он ее возит? Пята чувствовал на своей шее затертый до хромового блеска
воротник, и что-то заскребло у него внутри. Смотри, какой франт, подумал он про Ангела
– лежит себе на кавказской бурке, подложив под локоть черную кудлатую шапку, и в ус не дует. Еще недавно был на левом берегу Днепра, а сейчас уже тут командует,
84
рассказывает, что им делать. И с Марусей, вишь, встречался раньше всех... Пята потянул из кружки хороший глоток, и, глядя на Ангеловы сапоги, говорил с кривой усмешкой:
- У меня тоже есть валенки! Только они в стремена не влазят.
- Это не валенки, - сказал Ангел. – Это командирские сапоги.
- Сам пошил? – спросил Пята с той же усмешкой.
- Нет. Я их у одного терского золотопогонника занял. К моим стременам они как раз подходят.
- Расскажи лучше, как ты игумена в чернецы постриг, - попросил Бугай Пяту, чувствуя, что время перевести разговор на другую тему. – “Как то оно выходит? – подумал Бугай. – Брось в мужскую компанию половину женщины, и все станут, как петухи”.
- А что рассказывать? – помягчал Пята. – Как-то на нас беляки напали. Так наступали на пятки, что, убегая, мы заскочили в монастырь. Чернецы нас приняли как своих, спрятали в столовой, дали есть-пить, спать положили. А настоятель, шкура московская, послал одного черноризника, такого как сам, в село, где деникинцы на ночлег стали. Вот они и перебили нам сон. Так перебили, что трое наших остались там спать навеки, а большинство все-таки убежали. Ну, через некоторое время мы снова наведались в тот монастырь.
Пята умолк, как будто бы окончив свой рассказ, и начал крутить сигарету, ожидая, что кто-то его спросит: а дальше?
- Ну, а дальше? – подхватил его Бугай, хотя уже слышал эту историю.
Пята докрутил сигарету, зажег, затянулся дважды.
- Хотели мы растерзать настоятеля - помиловали. Чернецы, что нас тогда обогрели, молили, умоляли за батюшку, - сказал он, пуская носом дым. – Обчекрыжили наголо.
- И все? – спросила Маруся. – Охота была руки марать.
- Но это вместо нас сделал тот черноризник, который в село бегал.
- Любим же мы похвалиться своей добротой, - сказала Маруся.
Пята снова надулся.
- А ты что сделала бы на моем месте? – обратился он к Марусе на “ты”.
- Я? Я спросила бы совета у тех троих.
- У кого?
- У тех хлопцев, что заснули в монастыре навеки.
- Ну, игумен Божий человек все-таки, - сказал Пята.
- А те трое, по-твоему, чертовы?
- Тех уже не возвратишь.
- А если я завтра зайду в тот монастырь? И тот Божий человек... накличет на меня врагов?
На выручку Пяте снова подоспел Бугай:
- А это правда, пани атаманша, что в селе Брицкому вы зарубали семьдесят
продармейцев? – спросил он.
- Не я, - сказала Маруся, – мы с казаками.
- Так зарубали же?
- А что, нужно было постричь? – остро посмотрела Маруся на Бугая. – Я не
85
парикмахер.
- Такая юная и любишь... проливать кровь? – спросил эмоционально Пята.
- А что, на войне может быть по-другому? – удивилась Маруся. – Или, может, вы мне подскажите другой способ, как бороться с оккупантами?
- Оккупанта можно прогнать.
- Метлою? – из ее груди вырвался громкий смех, а лицо было бесстрастным. – Или палкой?
- Ну, почему же палкой? – неуверенно проговорил Пята.
- Тогда объясните мне, как – и я подарю вам свое вооружение, - сказала Маруся. – Вы думаете, мне нравится проливать кровь? Я учительница. И братья мои были учителями. Мы не собирались убивать. Но пришел завоеватель, и здесь уже есть одна правда: или он тебя, или ты его. По-другому не бывает.
Все смотрели на Марусю. Пяту как будто бы никто и не видел. Даже Дьяков поднял на нее свои безразличные холодные глаза.
- Мы говорили про настоятеля Божьей обители, а не о завоевателях, - сказал Пята. – Он стал на сторону врага. Не под угрозой смерти, а сам сделал свой выбор. И знаете почему?
- Так как он московский поп, - сказал Бугай.
- Нет, - перебила Маруся. – Помимо этого, он стал на сторону врага, потому что считал врага сильнее вас. Много есть таких, которые, не оглядываясь, станут на сторону сильнейшего. Такой у них инстинкт самосохранения. Поэтому мы обязаны показать людям, в первую очередь нашим забитым селянам, что мы сильнее. Что мы взяли в руки оружие не для того, чтобы стричь заблудившихся овец.
Это еще сильнее укололо Пяту. Досадно было от того, что история про росстриг игумена, которая раньше всем нравилась, теперь делала из него какого-то изгоя. Но он сказал как можно спокойнее:
- Если ты такая бедовая, то может, выпьешь с нами, наконец?
- А что ж... – Маруся достала из кармана небольшой платок, вытерла им руки после печеной картошки и по-женски спрятала в рукав. Налила из бутылки половину кружки и, подняв высоко вверх, обратилась к товариществу: - Будем!
Наклонив кружку, Маруся показала ее дно Пяте. Бывалые атаманы передернулись. Маруся вытерла губы рукавом и так лукаво подмигнула Пяте, что его лицо взялось свекольными пятнами.
- А это правда, что ты... той... – Пята едва не сказал “ведьма”, но смекнул и спросил: - Что тебя хотели сжечь на костре?
- Правда, - сказала Маруся. – Но я не горю.
- Как?
- А так, не горю, и все.
Она сняла с пояса австрийский штык с золотой ручкой и подошла к костру, который дышал жаром. Достав из рукава платок, Маруся наколола его на носок штыка и
поднесла к огню. Платок загорелся как факел. Все удивленно ждали, что будет дальше. Маруся помахала зажженным платком перед носами атаманов, потом взяла огонь в руки и
собрала в ладонях. Развернув платок, она снова вытерла им руки. На ткани не было и
86
следа от огня. Бывалые атаманы вытаращили глаза.
- Так, может, ты и пули можешь отворачивать? – спросил с издевкой Пята.
- Могу, - сказала Маруся.
Она достала из кобуры наган и бросила Пяте неожиданно так, что тот поймал его за ствол, нацеленный ему в грудь.
- Стреляй! – она обратилась к нему на “ты”.
- Куда? – растерянно спросил Пята.
- В меня стреляй, - сказала Маруся. – Не в себя же.
Пята какую-то минуту колебался, потом поймал наган за ручку, резко нацелил ствол в Марусю и потянул пальцем скобу спускового крючка. Маруся не моргнула глазом.
- Да иди ты! – сказал Пята и сердито бросил в сторону ее наган.
Атаманы перевели дух.
Маруся достала из нагана барабан, проверила, чтобы видели все, что он полный, и спрятала наган в кобуру.
Только тут атаманы облегченно засмеялись. Все, за исключением Пяты. Может, из этой последней выходки Маруси никто из них не понял, что за полминуты атаманша обманула их дважды. Крепкую, как огонь горилку, она вылила в рукав на платок, поэтому на платке горела не ткань, а горилка.
- Теперь я верю, - Пята сказал громко то, о чем вместе подумали Ангел, Бугай, Голуб, Шум и Лихо. На лице Дьякова проскользнула холодная усмешка.
- Пани атаманша, - поднялся Ангел. – Теперь к Несмиянову я без вас не поеду.
Глава десятая
I
Маруся давно хотела повидать Степана, один он, брат, у нее остался, но, когда выслала разведку в Янивцы, оказалось, что там разместились деникинцы. Зашло их, господ, в село немало – конники, пехота, и грабили все, что видели – скотину, продукты, фураж, где у кого какая одежонка была – и ту хапали из сундуков, сдирали с людей, глумились над женщинами и девушками. Недаром их Добровольческую армию селяне называли Гребармия.
Маруся решила ударить на Янивцы на рассвете, но с нападением она опоздала, так как на помощь ее отряду подходил со своим отрядом атаман Петро Филоненко. Атаман Филоненко уже воевал в бригаде Дмитрия Соколовского (сошлись они возле Звягиля), а после гибели братьев подчинился Марусе. Он также учился в Радомышле, окончил там Хозяйственную школу. Филоненко был старше Соколовской на пять лет. Если бы встретил, не отдал бы никому. Это шутка, а если серьезно говорить об этом, то атаман Филоненко, теперь о такой невесте не смел даже думать. В одном из боев он потерял глаз и покалечил правую руку. Саблю Филоненко не покинул, взял в левую, но какой он теперь кавалер? Только и того, что иногда придет Марусе на помощь и посмотрит на нее хоть одним уцелевшим глазом. Дождавшись атамана Филоненко, Маруся поставила его отряд в резерв – не хотела ломать установленного плана наступления. Ее конные сотни двумя крыльями охватили село с двух сторон, пехота пошла прямо вперемешку с конниками, а перед этим еще заявили свое слово пушки. С пушками у них всегда были хлопоты, и в этот раз также – началось с осечки. На команду “Огонь!” Оверко Липай, который был наводящим, шустро потянул за веревку, и только стукнул замок. Открыв его, он увидел, что на пистоне нет и следа от бойка, он сломался, и из-за такой маленькой штучки Оверко, почесав свой затылок, выбрасывает всю пушку. На другой пушке ослабли пружины в тормозах – после каждого выстрела она отпрыгивала, и вручную приходилось ставить ее на место, но, тем не менее, эта пушка свое дело сделала. По селу они, известно, не били, но когда на той стороне Янивцев глухо охнул выстрел, а с этой стороны застрочили пулеметы – там все задергались. Между пушечными выстрелами и пулеметным огнем беляки бросились на обе стороны села, где их уже ждала конница.
- Ата-а-ака! – прокатилась над полем Марусина команда, и первая сотня развернулась в лаву, на рысях пошла вперед.
- Прости, Господи, что в воскресенье... – перекрестился Никита Шульга.
Шли они легко и ровно, топот копыт отражался в их груди. Маруся слышала, как под кожею Нарцисса бурлит дикая арабская кровь. В другой лаве пешие казаки хватались за стремена конников и бежали рядом так быстро, что страшно было смотреть.
Соленый пот заливал им глаза, прерывистое дыхание разрывало груди, а они не выпускали стремян, и так быстро перебирали ногами, что тех ног и не было, казаки как бы не касались земли, летели в воздухе, как будто бы соревновались в лошадином беге.
88
Юхим Горишко держался за стремена, бежал босой, но никто не замечал, как мелькали твердые пятки. По беспорядочной стрельбе деникинцев было видно, что их охватил испуг, они не знали, куда бежать. Началась паника, наездники без стремян летели на ту
сторону, где недавно была пушечная стрельба. Пешие деникинцы так бежали через огороды и сады, что на спинах у них раздувались гимнастерки, с голов слетали фуражки и зависали на ветках. Их старшины пытались остановить беглецов, кромсали их саблями, но и этим нельзя было остановить отступление.
- Слава! Слава! Слава!!!
Бешеным карьером соколовцы влетели в село, где уже было пусто. Бой разгорался, конники, которые подстерегали врага по обе стороны Янивцев, колошматили их в полях. Работали преимущественно саблями, и слышались только одинокие выстрелы. На выгоне возле мельницы стояла целая куча возов с награбленным добром, которое оставили беглецы. Горы мешков с мукой, сахаром, крупами, всякими тканями и еще кое-чем привезенным издалека, так как среди других возов нашли мешок кишмиша и мешок кофе. За такое добро у городских магазинщиков можно было выменять не одну пару сапог и одежды. На одной подводе туго завязанный мешок оказался живым. Он бекал, трясся и подпрыгивал так, что трещали перекладины воза. Когда Санько Кулибаба его развязал, оттуда выскочил баран. Он, бедолага, в запале прыгнул с воза, перекатился через голову и побежал в ту сторону, куда побежали деникинцы, как будто имел к ним какое-то дело. Казачня зареготала ему вслед, а когда смех утих, Марусю вдруг охватила тревога. Почему, откуда? Ее потревожила тишина, которая опустилась на село после боя. Никто не выходил им навстречу, чтобы сказать доброе слово (так всегда было, когда они освобождали село), нигде не видно было ни одной живой души, не слышно человеческого голоса, даже собаки не лаяли. И тут Маруся поняла, что село мертвое. Увидев на ближайшем дворе согнутую бабусю, она пустила в ту сторону Нарцисса, но уже возле забора конь фыркнул и остановился, перебирая ногами. Бабуся сидела над зарубленным саблею хлопцем, который лежал в луже крови.
- Почему вы так поздно пришли? – спросила она мертвым голосом без жалости и укора.
Маруся молчала, она не знала, что этой старой женщине безразлично, что она ответит.
- Его убили за то, что не давал им барана, - сказала старая.
- А где люди? – спросила Маруся.
- Люди? Нет людей!
- Как... нет?
Старая рассказала, что мужчины, кто мог, сразу убежали из села, так как эти песьеголовые хотели их мобилизовать в свои войска. Тогда женщины с детьми и девушки попрятались по погребам и чердакам. В хатах остались только бабушки и дедушки. Деникинцы грабили все подряд, а что не могли взять с собой – уничтожали, чтоб не досталось никому. Ломали скрыни, шкафы, полки, рубили саблями одежду и рушники на стенах, молотили посуду, разбивали даже горшки с цветами. Горе было той девушке или молодице, которую они находили где-то в сарае или на чердаке.
- Может, его расчесать? – вдруг спросила старая, сняла платок и достала из своих
89
седых волос гребешок. – Или как ты думаешь?
Маруся молчала.
- Он у меня очень красивый был, - сказала старая. – Это мой самый младший. Он и
сейчас красивый, правда ж?
- Так, - согласилась Маруся. – Я попрошу хлопцев, чтобы его занесли в хату.
- Не нужно. Ему здесь хорошо. Солнышко светит. А в хате темно. – Старая провела гребешком по его волосам, которые заплыли кровью. – Ему ж не больно? - спросила она. – Или ты как думаешь?
- Не больно.
- Это хорошо. Мы сейчас причешемся, а потом переоденемся в свежую рубашку.
- Тетя... – хотела что-то спросить Маруся.
- Хотела его женить до поста. А теперь кто за него пойдет? Нам к свадьбе готовиться, а они пришли: давай барана.
- Может...
- Ты езжай себе дальше. Нам тут хорошо вдвоем.
- Может, вам чего?
- Нет, нам ничего не нужно, - сказала старая. – Нам хорошо.
Маруся повернула Нарцисса и, слегка придавив его шпорами, поехала в сторону церкви, что находилась за выгоном. Возле церкви жил Степан. Застанет ли она его дома? Белые священников как будто бы не трогали, но после того, что она тут увидела, тревога стала острее. Подъехав ближе, Маруся удивилась, что церковь открыта. Она привязала Нарцисса возле ворот, перешла двор и остолбенела на паперти. В церкви правили службу, так как в этот день было воскресенье. Но... для кого правилась служба? Перекрестившись, Маруся вошла внутрь и увидела, что в церкви совсем пусто. Нигде не видно ни одного человека, ни одного прихожанина. Только на амвоне перед царскими воротами стоял священник и, Боже милостивый, он по памяти читал Литургию Василия Великого. Он проговаривал Литургию так, как будто бы продолжал Тайную Вечерю, когда Бог обозначил главное Таинство Церкви – Таинство Причастия и, может, потому, что в церкви никого не было, священник обращался к Богу не церковнославянским, а своим языком: “Ты силою Святого Духа сделал нас способными для этого служения, чтоб не в осуде ставши перед Святою славою Твоею, мы приносили Тебе жертву благодати, так как Ты – тот, что творит все во всех. Дай, Боже, чтоб жертва, которая приносима за наши грехи, и за грехи невиданные народу, была угодна и приемлема Тебе...” Так говорил ее брат. Степан Соколовский. Он стоял на амвоне худой, бледнолицый, как уединенный пещерник, чьих молитв не слышит никто, кроме Бога. На глазах Маруси выступили слезы.
- Степаша...
- Сашуня...
Он подошел к ней, немного подался вперед, как будто бы хотел обнять, но не обнял.
- Что это, Степаша? – спросила она шепотом. – Что это? Для кого это богослужение?
Он безразлично усмехнулся, пригладив русую бороду.
- Церковь – это образ гроба Господнего. Тут не должна замирать жизнь.
90
- Так, но?..
- Господи, ты, бедная, подумала, что я сошел с ума?
- Нет, нет...
- Не бойся... Я при своем... Так должно быть, Сашуня.
- Известно, - сказала она. – В церкви должно нравится.
Маруся перевела взгляд вверх и увидела темную икону, блекло подсвеченную мигающими огнями свечек, которые потрескивали, качались, словно на ветру – побег Лота из Содома.
- Ты давно была дома? – спросил Степан.
- Сегодня к вечеру буду в Горбулево. А теперь...
- Я знаю. Должна бежать.
- Да, должна. Извини.
- Может, возьмешь меня в отряд капеляном? - вдруг спросил Степан.
- Ты серьезно?
- А что же. Лучше капеляном, чем так.
- Ты в самом деле пошел бы? – обрадовалась она и сразу застеснялась своей радости.
- Нет, Степаша. Ты у нас один остался. У тебя должно родиться не меньше трех сыновей.
- Родятся, - ответил он. – Я сейчас не могу оставить парафию. А когда смогу – найду тебя сам.
Маруся поднялась на пальцах ног, трижды поцеловала брата, касаясь щекою мягкой бородки.
- Не сердись, в отряд я тебя не возьму. Бывай!
- Я найду тебя, - сказал он.
Маруся вышла на паперть и повернулась. Она почувствовала, что Степан ей что-то не договорил. Осталась какая-то недомолвка. И он спросил:
- У тебя в отряде еще есть Матвей?
- Какой Матвей?
- Матвей Мазур. Из Пилиповичей. Тот, что виновен... – дальше Степан замолчал, вспомнил, что рассказывать чужую тайну, услышанную в причастии, священнику грех. Он не сказал, что тот виновен в смерти их брата Дмитрия.
- В чем он виноват? – спросила Маруся.
- Да так, ни в чем... Я просто спросил. Передай привет отцу и маме.
Степан осенил ее тремя сложенными перстами.
Через проем церковных дверей он видел, как Маруся вскочила на коня и пустила его галопом в сторону мельницы.
Отец Степан носил на душе тяжелый камень. Тайна причастия не давала ему открывать ее. Он носил такую тяжесть с того времени, как один человек на причастии открыл ему тайну, кто убил его брата Дмитрия Соколовского.
После боя в Янивцах Маруся всем отрядом отошла к Горбулево. Раньше при таких событиях она распускала казаков домой до нового собрания, оставляя при себе только конную сотню. Но на этот раз решила пройти всем отрядом через все окружающие села – пускай люди видят, что соколовцы не сборище бандитов, как называли их большевики, а организованное войско из трехсот сабель и семисот штыков.
Выдвинулись упорядоченным маршем так, чтобы в Горбулево войти еще до захода солнца. Впереди тройками двигались конницы, за ними ехали на возах пешие (по шесть-восемь человек на подводе), вслед за пехотою твердо ступали толстыми волосатыми ногами тяжелые кони – они тянули две полевые пушки вместе с пушкарями. Замыкали колонну три тачанки с тяжелыми пулеметами, стволы которых стерегли тылы, хотя и в тылах и далеко впереди колонны на марше смотрели конные разведчики. Глядя со стороны на этот военный обоз, особенно на конных, он больше напоминал не военных, а беженцев. Они всю дорогу трусились на возах, свесив с них ноги, и уже совсем не вписывались в эту картину две босые ступни, которые плелись среди других, как будто не ноги, а лапы.
Перед маршем Маруся сама подарила Юхиму Горишко (внуку “правой руки царя”), который привык быть босоногим, новые яловые сапоги, а он, галичанин, спрятал их на “мирный день”, и теперь портил им весь фасон. Во главе колонны ехали верхом на белом арабе Маруся, рядом с нею – Санько Кулибаба с желто-голубым флагом и Василий Матияш, адъютант “Самой”, как иногда называли Марусю ее казаки. Оба ехали на кобылах – Гальке и Басе, но кобылицы были стремные (в Горбулево почему-то так называли молодых лошадей), горячие и веселые, как девки на выданье. Когда переходили села, люди присматривались к ним из-за заборов, более смелые выходили за перелаз, а детвора выбегала на улицу и кричала:
- Наши! Петлюровцы идут!
- Дядя, дайте стрельнуть!
Маршевым строем они прошли через Головин, Сленчице, Торчин, а за Торчином уже виднелось Горбулево, и Маруся почувствовала, что даже Нарцисс узнал свое село. Он заострил уши, слегка натянул поводья и прибавил шаг. Санько Кулибаба выше поднял флаг. Перед селом, недалеко от карьера, стоял итальянский купец Флориан Лева, который так глубоко врос в горбулевский камень, что даже после того, как Россию сопровождали войны и разруха, не убежал в Италию, а так и остался в Горбулево. Может он думал, что и тогда, когда империя развалится на куски, когда все здесь упадет и покроется пылью, горбулевский лабрадорит все равно останется целым и его и дальше можно будет возить на продажу в Европу. А может, Флориан Лева хотел посмотреть, чем окончится это эпохальное действие, которое не каждому приходится увидеть на своем веку. Поэтому он и сейчас стоял возле карьера (немного далее краснел в лучах солнца его коричневый дом),
и был похож на путешествующего летописца, который всегда оказывается в нужном месте в нужное время. На Флориане Леви был дорожный плащ- дождевик, чудная фуражка с хлястиком поперек головы и длинным козырьком, который не давал солнцу слепить
92
итальянца – он смотрел на Марусино войско такими широко раскрытыми глазами, как будто бы перед ним проезжал сам Джузепе Гарибальди со своим корпусом ополченцев, у которого вначале также было около тысячи добровольцев. Итальянец Лева хорошо знал Сашу Соколовскую, как и ее братьев, так как он неоднократно бывал в хате дьяка Тимофея Соколовского. Добропорядочный католик, Флориан Лева вместе со своей женой Алевтиною ходил на службу Божию в польский костел. Однако был в дружеских отношениях с православным дьяком Тимофеем Соколовским, жена которого Ядвига также ходила в костел. Лева знал их детей с детства, знал наездницу с колыбели, а теперь не мог понять, как они, сельские детлахи, на его глазах выросли в полководцев. Что толкает их на эту борьбу, откуда это стремление, чтобы так, погибая один за другим, ежедневно идти на смерть? Нет, Флориан Лева не мог ответить себе на этот вопрос. Ничего подобного он не встречал ни в книгах, ни тем более в жизни. Он уже знал, кто такие большевики, и как их ненавидели здешние селяне, но чтобы так... чтобы такие молодые люди погибали один за другим?.. Падает брат - на его место тут же становится другой, гибнет другой – его заменяет третий, убивают третьего – на смену старшему приходит юная сестра... Нет, такого Флориан Лева не мог себе объяснить. Он только мог снять перед ними, людьми, шляпу, и сейчас, глядя на желто-голубой флаг, что аж горел в лучах заходящего солнца, глядя на наездницу, которая ехала в голове колонны, итальянец снял свою фуражку с длинным козырьком и бодро помахал им в знак приветствия. Маруся также сняла шапку и помахала Флориану Леви, мелькнув в воздухе красным шлыком.
- Доброго вечера! Как поживаете? – крикнула она на итальянском.
- Хорошо, - ответил Лева.
“Нет, это не Гарибальди, - подумал он. - Это Орлеанская Дева, что когда-то также восстала против захватчиков и была сожжена на костре за колдовство и... за то, что она носила мужскую одежду. О времена, о обычаи! Санько Кулибаба подморгнул, улыбаясь Василию Матияшу. Ему нравилось, что у них такая умная атаманша, что она умеет говорить и по-итальянски. И еще Саньку нравились ее бодрые команды, которые они почувствуют уже скоро, когда выйдут за Ланаевскую на выгон – торговая площадь посреди села. “Конница, спешиться!”, “Ездовые, слазь”, “Отпустить подпруги!”, “Овес коням”. Это будет немного позже, а сейчас Маруся накидывает на голову шапку и, ловя взглядом вершину их церкви, слышит, как сжимается сердце. Мама, матуся... как она там, бедолашная? После гибели Алексея, как надела черный платок, так больше его и не сбрасывала... Потом Дмитрий, Василий. Есть ли еще в мире такая страдалица, что в один год похоронила трех сыновей-соколов? Не похоронила, не провела их в последнюю дорогу, она даже не знает, где их могилы. Алексея закопали тайно под Пилиповичами, Дмитрия точно также в Корчивцах, Василия расстреляли в Радомышле и уже мертвого выбросили в речку. Нет, мама, могил, чтобы могла оплакать своих сыновей, но у вас, моя родная, уже и слез нет, выплакала их давно, и слов нет, но слова тут ничего не значат, и голос ваш пересох, и умерло даже ваше дыхание... Когда вы узнали, мама, что я ступила на тропу братьев, еще крепче сомкнули синие губы. Потом все-таки сказали: “Значит, так написано нам на роду”. Вы, мама, ровно держали спину, ровно держали голову и смотрели прямо перед собою, хотя казалось, ничего не видели. “Мы сами так себе написали, - сказал отец. – Так если не мы, то кто?” Мама, я везу вам привет от вашего последнего
93
сына. Я видела, мама, Степана, да не знаю, как вам об этом рассказать... Тяжелым было наше свидание. Боль подходит Марусе к горлу и, прогоняя ее, она подает команду, которую давно ожидали казаки:
- Песню!
Послышалась душепронизывающая мелодия, которая не очень подходила к их маршу, однако запевалы пели песню, какую сами сочинили, выводили ее, как им хотелось, так, как сами придумали. “Роза розовая – цвет розовый: куда-то поехал Соколовский. Куда-то поехал и его нет. Он с казаками пьет и гуляет”.
В этот момент Маруся почувствовала, как рождается народна песня, так как она впервые услышала слова: “Ой, он не пьет, он не гуляет. Брат сестру зазывает: “Ты ж, Маруся – Соколовская! Роза желтая – цвет желтый”.
В Горбулево люди не прятались за заборы – старые и малые, мужчины и женщины, девушки выбегали на улицу, один впереди другого, так как среди Марусиного войска были их мужья, братья, сыновья, суженые, сваты, кумовья, соседи и слышны были выкрики тут и там:
- Семен!
- Пилип!
- Сашко!
- А где мой Андрей?
- Свирид, ты Ониска не видел?
Но никто не подбегал к казакам, не нужно ломать их походного строя, и только юродивая Марилка, которая услышала песню, прибежала сюда аж от Первой Шляхты, кинулась к своему суженому Льюдзю Липке, поймала его за стремена, а он наклонился, подхватил ее как перо, и посадил впереди себя на Киргиза. У Маруси от этого снова сжалось сердце еще сильнее, так как она в голове колонны уже подъезжала к своему двору, где возле ворот гордо стоял ее простоволосый отец, стоял Тимофей Соколовский, дьяк Покровско-Николаевской церкви – не по летам статный, широкоплечий, только борода его, когда-то русая, теперь стала серой, как будто ее ему припорошили пеплом, а мамы не было, мама была в хате, так как, услышав, что едет Сашуня, она уже готовила еду, готовила любимую толченую картошку своей младшей дочери. Маруся вынуждена была проехать свой двор, потому что вначале необходимо довести свой отряд к месту расположения, отдать команды, распорядиться, что и куда, выставить охрану, а тогда уже можно прибежать домой. “Так что, отец, извини, такой порядок, - про себя рассуждала Маруся, - вы же знаете, вы до настоящего времени, мой папа, мой начальник штаба и вдохновитель, хотя вдохновителем должен был быть Степан, ваш сын, и мой брат, который выучился на священника в Киевской духовной академии и теперь имеет парафию в Янивцах. Именно оттуда я привезла вам, папа, привет от вашего сына... Не знаю, как красивее вам сказать об этом”.
94
III
Все, что есть тайным, явным станет обязательно, только всему нужен свой час и
место. А то, что мужчина, который говорил на причастии, также потом станет известным,
и священник тут ни при чем. Есть такой закон на свете: если ты скажешь что-то один раз под большим секретом, то обязательно скажешь и другое. Такая она, тайна причастия, если брать причастия вне церкви. Напрасно отец Степан мучился в сомнении, что он под угрозу ставит жизнь сестры, не сказав ей про убийцу, хотя немного полегчало после того, когда сделал ей намек. Вдруг что – сестра догадается, откуда угроза. Но так вышло, что Маруся обо всем узнала в тот же день. После домашней купели (мама-мама, вы даже мыли мои волосы любистком) она надела зеленую шелковую сукню, ту, в которой Алексей возил ее в Радомышль и которая ему так нравилась, обула новые ботинки с высоким подъемом, надела даже золотые сережки и к ужину села такой панной, что не узнать. Она и раньше умела приукраситься и показать себя, но с тех пор, как ее не видела мать, что-то все-таки поменялось в девушке – и не от того, что теперь она имела другое имя, что была атаманшею и занималась не тем, чем должна заниматься девушка. Что-то появилось в ней женское, такое, чего не заметил за ужином отец, дьяк Покровско-Николаевской церкви и начальник штаба повстанческой бригады имени Дмитрия Соколовского, зато сердцем почувствовала мать, уроженка шляхтянка Ядвига Квасницкая. Она заметила это еще тогда, когда купала Сашуню в деревянной ванне, купала словно маленькую, как когда-то в детстве, и увидела, что дочь ее не такая, как была еще совсем недавно – налилась грудь, набрякли черешенки (откуда пришло Ядвиге это слово – неужели от Тимоши она услышала его еще в молодости), лоно стало тугим, губы повишневели, хотя телом Сашуня похудела и вытянулась. Но тело – это только сотая частица от того, что может прочитать мать через глаза дочери, и Ядвига Квасницкая увидела в тех сине-серых глазах такое, о чем боялась думать. Она ее ни о чем не спрашивала, больше спрашивал Тимофей, Ядвига же больше смотрела на дочь, смотрела, как она с ножом и вилкой ест свою любимую толченую картошку, загадочный вкус которой припрятан в приправе, которую Ядвига делала из кукурузных рылец – растирала в пыль сухие волосы кукурузных початков и добавляла в подливу. При свете двух лиловых свечек (с керосином теперь стало трудно) Ядвига любовалась аристократичными манерами дочери, хоть на ее лице не было и тени заинтересованности. Ее лицо было как замерзшая в волнах река. Но ей нравилось, как Сашуня ест, как ровно держит спину и голову, не горбясь над тарелкой, как деликатно пьет чай, и Ядвига думала, что дочка взяла что-то и от нее, урожденной шляхтянки Ядвиги Квасницкой, хотя она давно стала Явдохою. Так ее перекрестил Тимоша, этот путешествующий дьяк-гайдамака, который тридцать лет тому прибился в их края из Чигиринщины (он говорил с Холодноярщины). Пришел на ее голову, белобрысый, брови белые, бородка белая, непонятно, чем он и соблазнил ее, шуструю шляхтянку Ядзю. Но она знала, чем он ее приворожил, но того людям не скажешь, не объяснишь, почему побежала за ним, как ногу подломила, и родила четверо сыновей и пять дочек (правда, Настюшу побил родимец еще ребенком). Но ни один из них не почувствовал в себе материнской крови, все пошли в отца, удались в
95
гайдамаку, что убежал из Холодноярщины неизвестно от кого, только намекнул Ядвиге, что было у них там тайное товарищество, за которое ему светила каторга, ото ж молчок. Молчок так молчок, но и детей воспитывал так, что у Ядвиги временами мороз шел по коже. У них еще молоко не обсохло на губах, а слушали про казаков, про Байду, Хмеля, Трясило, Зализняка... им бы сказочку про курочку Рябу или Котигорошко, а он, окаянный,
берет... “Кобзаря” и читает “Гайдамаков”. Когда доходило до того места, где Гонта режет своих сыновей, Ядвиге казалось, что он делает все, чтобы она никогда не католичила их детей.
Детвора дрожала, как осиновые листья, а там, где Гонта “махнул ножом – и детей нет!”, девушки начинали плакать, и что интересно, этот анафемский дьяк-гайдамака тоже вытирал слезу. Ядвига долго ругалась на эти Тимошевы чтения, на то, как грубо воспитывает детей, а потом поймала себя на том, что в глубине души она уже гордится своим мужем, что он не такой, как другие, и пришел он в их край не таким, каким видели его селяне – босой, ободранный, задумчивый, имел в торбе только Библию и “Кобзаря” – нет, он принес на своих плечах весь Холодный Яр с его матрониным монастырем и гайдамацкими скарбами, и теперь, любуясь своей дочкой, ее умением держаться не для людского глаза, а наедине с собой, Ядвига Квасницкая думала, что Сашуня таки немного взяла от нее. Да, Тимош дал детям свою гайдамацкую закалку, что же до шляхетских манер, женского фасона и ласки, то это уже, извините, от мамы Ядвиги. Никаких лишних слов, лишних прибауточек там, где все понятно, никаких дурных игр там, где не смешно. Только гордая постановка головы, строгая линия шеи, тонкий выгон руки, сосредоточенный взгляд, в котором Ядвига заметила, появился тревожный блеск.
- Я видела Степана, - вдруг сказала Саша.
Отец поднял вверх седые, как будто бы посыпанные золой брови. Мать смотрела где-то далеко перед собою.
- Где? – спросил старый.
- В Янивцах. Где ж я еще могла его видеть?
- Ты была в Янивцах?
- Да, сегодня.
- Как он?
- Хорошо, - сказала Саша. - Как раз правил службу. Я также была в церкви. Просил передать вам привет, говорит, что скучает по вас...
- Скучает... – старый налил в блюдце чай, громко отсербнул. – Недавно видел Бабуру. Говорила, чтоб ты прислала людей. Она подготовила тебе что-то.
- Мы сегодня проезжали Слипчивцы.
Василина Бабура, в первую очередь самая лучшая ткачиха, жила в Слипчицах и уже давно выручала соколовцев полотном и бельем. Василина имела восьмирядный ткацкий верстак, потому ее тонкое полотно годилось не только на панское белье и праздничные рубашки – им хорошо было перевязывать раны.
- Хлопцы ночью наведаются к ней, - сказала Саша.
- А как там Надя, заходит к вам?
- Невестка? - отец как-то напрягся, посмотрел на мать. – Сам хотел сказать тебе, да не знаю как. – Мать молчала. – Прибежала как-то и упала перед нами на колени. Это я,
96
говорит, виновата, что Василия убили. Еще тогда, говорит, как застрелили Дмитрия, она выскочила на веранду и увидела Корча.
- Как? И до этих пор молчала?
- Молчала. Говорит, за ребенка боялась. Корч, говорит, пригрозил, что ребенка растерзает, если она кому-то пискнет. Ну, и домолчалась до того, что Корч и Василия
продал.
- Нелепость какая-то.
- Что-то обморило ее. Простите, говорит.
- А где он теперь? – спросила Саша.
- Кто?
- Корч.
- Не видно его. Вероятно, когда убегали красные из Радомышля, то и он пошел с ними.
- Ну, наверное же...
- Но это еще не все. Надя рассказала, что Корч после того приходил к ней. Кум же... – старый холодно передернул плечами. – Также упал на колени и поклялся детьми, что не он убил Дмитрия. Что как будто бы стрелял Матвей. Он и деньги взял.
- Матвей? Это который?
- Матвей Мазур из Пилиповичей. Но не знаю, или то правда, или, может, Корч врет. Верь сейчас людям. Может, они изменники, деньги не поделили, и теперь оговаривают один другого. Матвей Мазур был хороший боец, большевики ж ему хату сожгли. Они тогда почти все их село пустили за дымом.
- Правда, - сказала Саша, и старый снова так глянул на нее из-под бровей, что две свечки отразились в его глазах.
- А ты откуда знаешь?
- Отец, это правда, - повторила она. - А Матвей также пошел вместе с красными?
- Нет, он и сейчас в Пилиповичах. Хату новую строит.
- Все сходится. Это он убил Дмитрия.
- Что сходится? – не понял старый.
- Нужно допросить Матвея. Пускай хлопцы его полоскочут, чтоб языка развязал.
- Не нужно никого лоскотать. Если человек строит хату, то нужно вместе к нему заехать на двор.
- Я бы его сам укокошил, - сказал старый. – Как скаженного пса.
- Было бы много чести для него. Казаки сами решат, какой кары он заслужил. А сейчас я бы хотела увидеть Надю.
IV
На рассвете, перед тем, как двинуться в дорогу, Саша подошла к матери. Давно собиралась сказать ей: “Мама, если вы вдруг услышите от кого-то, что меня убили – не верьте. Может, так случится, что я перейду границу и буду проживать на чужбине до лучших времен. Может, подам известие, а может, и нет. Пускай никто не знает, где я
97
пропала. Так будет лучше для всех”. В последнюю минуту Маруся передумала это говорить. Не было уже тех слов, которые б могли утешить ее несчастную мать. Маруся даже не обняла ее, только наклонилась и впервые поцеловала материнскую руку.
- Прощайте.
- Не прощайся, - сказала Ядвига. – Иди.
Глава одиннадцатая
I
Мирона Горняка, которому не суждено было убежать из лагеря, деникинцы не расстреляли, хотя, играя под пьяную руку, стреляли в землю возле него, били ногами и, вероятно, так бы и порешили, если бы знали, что из лагеря убежало сто восемьдесят четыре пленных. Но тогда они думали, что к побегу собрался только этот одинокий колодник, поэтому стреляли для страха, и, только проводив Мирона в его сарай, пошли по баракам и увидели, что большинство пленных убежало. Деникинцы подняли крик, даже угрожали пленным, которые остались в лагере, расстрелом (тем более что 24-го сентября петлюровская Директория вместе с галицкою Начальною командою объявили Добровольческой армии войну), но обошлось. Комендант лагеря полковник Осликовский сказал, что глупо сгонять злость на арестованных, которые не убежали, наказать нужно тех ярыжников, которые не уберегли пленных, может, им эти пленные еще пригодятся для обмена. Вероятно, более всего они были нужны самому полковнику Осликовскому, так как если не будет пленных, то не будет и самого лагеря, и даже добился, чтобы для охраны лагеря выделили еще небольшой конный отряд, то есть если доведется догонять беглецов, то на конях же лучше, чем пеша. Кавалеристов дали ему незавидных из вольнонаемных, кони у них также были плохие, но служивые держали форс, ежедневно занимались ездовыми упражнениями, и когда однажды субботним вечером к лагерю подъехали две цыганские кибитки, конники сами попросили цыган исправить коням подковы. Кибитки заехали в лагерь через ворота и остановились так, что когда к ним начали подводить коней, из-под одной и другой халабуды в разные стороны выдвинули свои стволы два пулемета. Из-под обеих халабуд выскочило несколько цыган в помятых фуражках с обвислыми винтовками, и вместо обычного ковального имущества в их руках были карабины и даже два “льюиса”.
- Не двигаться! – крикнул совсем еще желторотый цыганенок, одетый в короткую суконную кирею, расцяцькованную на груди и руках.
На голове у него была старенькая фуражка, в одной руке цыганенок держал револьвер, а в другой бомбу.
- Бросай оружие! Всем оставаться на местах, в противном случае мы откроем огонь из пушек! – декламировал цыганенок, как будто бы он командовал артиллерийской батареей.
Осторожные деникинцы стояли и боялись дышать. Кое-кому сперва показалось, что к ним заехал передвижной цыганский театр, а один рябой в белой бараньей шапке так и спросил:
- Это что – бродячий цирк?
- Нет, это катафалк за тобой приехал! – сказал цыганенок.
В его руке грохнул револьвер, и белый баран слетел с головы рябого. Он помимо воли помацал себя по макитре, удивляясь, что она осталась на шее.
99
- Кому было сказано – оружие на землю?
Застучали об землю винтовки. Это были еще те цыгане – помимо пулеметов, они имели-таки ковальное имущество. Одна помятая фуражка с обвислыми отворотами побежала с молотком и зубилом к сараю, возле которого на колоде сидел Мирон. Пленные, которые только вернулись с работ (а их было еще тут около сотни), на этот раз выходили не через дырку в колючей проволоке, а через ворота, возле которых вместо часовых с красными погонами стоял веселый усатый цыган и показывал револьвером в сторону леса.
- Туда, хлопцы, бегите! Туда! – выкрикивал он. – Там вас ждет проводник!
Мирон, как только началась эта катавасия, догадался, что атаман Зеленый о них не забыл. Они, пленные, ежедневно надеялись на освобождение, но такого “цыганского” нахальства никто не ожидал, стрельцы были удивлены партизанской отвагой так же, как и лагерная охрана, поэтому сперва выходили за ворота неуверенно, оглядываясь, как будто также думали, что это какой-то цирковой обман.
- Да поторопитесь же, сонные вы мухи! – подгонял их усатый цыган. – Или мне вместо револьвера взять плетку?
Только отойдя дальше от ворот, пленные бросились бежать к лесу. За ними стояла только пыль, как будто из-под конских копыт.
Нетерпеливый коваль приказал Мирону поднять ноги на колоду и так орудовал тяжелым молотком и зубилом, что из Мироновых глаз сыпались искры, как из того железа, по которому клепал коваль. Железные кандалы подпрыгивали после каждого удара, терлись о сине-голубые путы на ногах, и, казалось, доставали до костей. Наконец, коваль снял железки, Мирон поднялся на ноги, и, ступив шаг, покачнулся – он разучился не только бегать, но и ходить по-человечески. Коваль схватил Мирона под руку (так, как будто клещами) и повел, как беспомощного инвалида, до ближайшей кибитки. Тут подсадил его и сердито затолкал в халабуду, где Мирон оказался между двумя пулеметами в помятых фуражках с обвисшими отворотами. Нахальный и шустрый цыганенок в расцяцькованной кирее обратился к деникинцу с прощальным словом:
- Оставайтесь здоровы, и благодарю за внимание, господа хорошие! – проникновенно сказал он. – Я дарю вам жизнь. Но если кто-нибудь вздумает нас преследовать, передайте ему, что вон в том лесочке, куда мы сейчас направляемся, стоит целая дивизия Зеленого. А теперь разрешите откланяться. – Нахал, помахав бомбою, заскочил в кибитку, и погонщик лягнул по коням. Обе халабуды, утопая колесами в песок, покатили в сторону леса. Из кибитки, которая ехала сзади, выглядывал ствол “максима” – черным холодным глазом пулемет смотрел на осиротевший дарницкий лагерь до тех пор, пока он не растаял в сумерках ранней осенней ночи.
II
- Будет нам с тобой что вспомнить, еге! – сказал цыганенок Мирону, когда кибитка уже мчалась полевой дорогой. Обе халабуды сразу же за лесом повернули в сторону Днепра, а стрельцы-бедолаги подались гуськом за проводниками в направлении Триполья.
100
- Будет, - сказал Мирон.
Он еще на подворье лагеря, когда соколиный глаз налился теплом, узнал этого
очень красивого, юного и самоуверенного цыганенка с сине-серыми глазами (это была переодетая Маруся). Мирон давно бы задушил его в объятиях, если бы не “цыгане”, что сидели с ними в халабуде – двое при пулеметах, еще третий за погонщика, а четвертый – Миронов коваль, который примкнул к их экипажу, как будто бы это ему не кибитка, а рукавичка, какая могла вместить и кабана-клыка, и медведя-шатуна. В халабуде было совсем темно, так как и на улице уже затянула густая темень – нигде ни звездочки. Ночь выдалась на диво тихая и теплая. Осенью это как раз так и бывает, когда низкие тучи закрывают холодную бездну неба. Темная, затянутая тучами ночь, была им на руку – коваль сказал, что в Борисполе, за каких-то десять верст отсюда, стоит полк деникинской конницы, которую москали бросят им вдогонку. В кибитке никто не видел, как сомкнулись две руки, Маруси и Мирона, нашли в темноте одна другую. Коваль еще раз пояснил Мирону, как ему с Марусей выйти на хутор Вищенский и найти деда Чепурного. На хуторе всего четыре хаты, дедова стоит крайняя в саду, там только у него увидите колодезного журавля с желобом для скотины. Деду нужно сказать, что они пришли от атамана Черного, ищут перевоз на правый берег. Хутор вы найдете быстро, тут дом деда один стоит меж лугов на пригорке, поэтому его весной не затапливает полноводие. Отсюда и название – Вищенский. А стучать в окно нужно так: тук-тук, тук-тук. Коваль постучал согнутым пальцем об щиток пулемета, показывая, как нужно вызывать деда Чепурного. Кибитка остановилась среди лугов.
- Слазьте, - сказал коваль. – Это все, что мы можем для вас сделать.
Маруся, взяв торбу-едунку, первой соскочила с кибитки. Мирон за ней. Ноги возле косточек жгло огнем, но он был уверен, что теперь дойдет хоть на край света. Взял у Маруси торбу и бросил на плечо лямку.
- Идите вот прямо, - показал рукой коваль, - и никуда не сворачивайте. За четверть часа будете на хуторе.
- Спасибо! – сказала Маруся. – Передавайте привет атаману!
- От кого? – спросил коваль.
- Он знает.
- Хорошо. Смотрите, не заблудитесь. Тут две версты.
Халабуда покатила дальше, вдруг из ее темной проймы полетело что-то черное прямо в Мирона.
- Держи на память! – крикнул коваль. – Понадобится в дороге!
Поймав вещицу, брошенную ковалем, Мирон почувствовал, что это свита коваля – теплая, подбита ватой, она даже держала в себе тепло коваля, который только что снял ее с себя. Кибитка исчезла в темноте, Маруся и Мирон смотрели ей вслед до тех пор, пока не затих стук колес. Они остались вдвоем среди безграничной тишины, среди бескрайней ночи, среди всего света, в котором, казалось, за исключением их, нет больше никого. Прислушавшись один к другому, и ловя губами губы, они чувствовали себя одним существом, и оттого было блаженно и страшно.
- Ты слижешь с меня всю сажу, - сказала она.
- Так и что?
101
- Мне еще нужно побыть хлопцем.
- Для чего?
- Увидишь.
- Я слегка. Я только в родинку...
- У меня кругом голова идет. Мы не найдем дороги на хутор.
- Найдем, - сказал он. – Найдем.
Взявшись за руки, они пошли в ту сторону, куда указал коваль. Дорогой Мирон спросил:
- Что с нашей армией? Где мой курень?
- Хорошего мало. Как отдали Киев, все покатилось вниз.
Маруся рассказала, что она с действующей армией больше не сотрудничает, но проводит Мирона в район Липовцев. Именно там находится его бригада. Там удержали деникинцев и получили два фронта. 14-ая советская армия, что шла от Одессы, уже соединилась с 12-ою, которая была возле Коростеня. Галицкое войско оказалось между двумя врагами: с севера наседают красные, с юга белые.
- Проклятье! – выругался Мирон. – И снова два фронта. До каких пор это будет? Кто выдержит этот злой жребий?
- А ты не знаешь? – спросила Маруся.
- Не знаю. Скажи.
- Украинцы имеют два правительства. Надднепровское и галицкое. Они оба сидят в Каменцах и грызутся между собой. Поэтому для собственной безопасности галицкое правительство держит возле себя бригаду сечевых стрельцов и два куреня пехоты, а надднепровское – бригаду гайдамаков и Молодежную школу старшин. И это тогда, когда в решительных боях с врагом не хватает сотни-другой бойцов. А ты говоришь жребий.
Маруся не сказала ему, что надвигался еще и третий враг. Возможно, самый страшный. Сам увидит. Жребий, жребий... Но зато им выпала ночь, которая благоприятствовала им во всем.
Пройдя две версты по лугам и пастбищам, они увидели на пригорке очертания деревни, над которой высоко задрал нос колодезный журавель. В саду за забором стояла хата. Дед Чепурной был еще не глухой и к тому же храброго десятка, открыл им на стук, не спрашивая, кто пришел. А для чего? Если свои, то ласково просим, а коли чужие, то влезут и так, хоть в окно, хоть в дымоход. Он зажег лампу, и они увидели приземистого, но еще крепкого деда, который словно ангел, был весь белый. Белая полотняная рубашка, белые кальсоны, белая борода и усы, и как пух, редкий волос на голове.
- Мы от атамана Черного, - сказала Маруся белому деду. – Он просил, чтобы вы подсказали нам, как переправиться на тот берег.
Дед Чепурной тихонько закряхтел, словно это не такая простая штука, как кое-кому кажется, но, посадив их на лавку, сказал, что нужно подумать, хлопцы (Марусю он, понятно, принял за мальчугана). - А пока вам следовало бы подкрепиться.
В это время пришла от печки бабуся, тоже аккуратная и приветливая – вместо того, чтобы бурчать, что ее разбудили и не дают спать, бабуся сказала, что сейчас положит им пшенной каши и насыплет суп из леща, больше ничего такого нет, гостей не ожидала, но чем хата богата – ворковала, как голубь, бабуся, и все бренчала ложками в миске.
102
Гости вначале отказались от угощения, а потом увидев, что дедусе с бабусей это
будет приятно, сели к столу. Мирон еще, как вошли в хату, снял свою стрелецкую фуражку, а Маруся извинилась, что не может снять фуражку, так как голова у нее перевязана, и теперь, усаживаясь за стол, еще раз попросила извинения.
- Сильно зацепило? – спросил дед Чепурной.
- До свадьбы заживет.
- Видишь, старая? Уже и дети воюют, а ты меня не пускаешь, - с сожалением проговорил дедусь. – Что ж я не казак?
- А с кем же ты хочешь воевать? – спросила бабуся.
- Да мне с кем-нибудь, только бы за Украину, - сказал белый, как ангел, дед и расправил плечи, словно крылья.
Оказалось, что на хутор Вищенский еще не заходили ни красные, ни белые. Сюда наведываются только повстанцы. Тут, на хуторе Вищенском, признается только атаманская власть. Верховный вождь у них Черный, есть еще и поменьше атаманы, а той, чужой власти, что где-то там в Киеве или Борисполе, они не знают, и знать не хотят. Слышали, что в Украину пришел какой-то московский “генерал Деникин” и как будто бы хочет возвратить царя.
- Это правда? – спросила бабуся, глядя на них любопытными, как у птицы, глазами.
- Правда, - сказала Маруся. – Каждый хочет здесь свои порядки заводить. Были красные, теперь пришли еще и белые москали.
- Мне бы скинуть лет десять...
Но бабуся махнула на него рукой.
- А то правда, - допрашивала она, - что у тех деникинцев погоны из чистого золота?
- Вранье, - сказала Маруся. – У ихних рядовых погоны пошиты из красных женских юбок. А у офицеров такие же, только сверху покрыты позолотою.
- Из женских юбок? – переспросила бабуся, и вдруг так засмеялась, что едва не погасла лампа.
Дедусь заразился смехом старой, и себе задергался, словно от лоскотки, а с ними засмеялись Маруся с Мироном.
- Та кого ж они собрались завоевывать, если у них погоны из женских юбок? – вытирая руками слезы, удивлялась бабуся.
- С женщинами они и воюют, - сказала Маруся. – По скрыням, да по чужим полкам лазать. Деньги ищут.
- О Господи! А деньги сейчас в какой цене?
- Гривни, бабуся, - сказала Маруся.
- Я таких еще и не видела.
Маруся достала где-то внизу киреи две бледно-синие кредитки по сто гривень и протянула бабусе. Та потрогала их, важно рассмотрела на свету – осторожно поднесла к лампе, чтобы не сжечь. На деньгах с одной стороны была нарисована женщина в венке и со снопом в руках, а с другой – мужчина, то ли с лопатой, то ли с мотыгою, то ли с цепью. Вероятно, молотельник с цепью, подумала бабуся, если женщина со снопом.
- Пускай остаются у вас, - сказала Маруся. – Может, дедусь перевезет нас на ту сторону?
103
- Перевезет, где он денется, - махнула бабуся рукой.
Дед Чепурной и себе хотел посмотреть на деньги, но их уже корова языком слизала. Бабуся спрятала руки под фартуком, быстренько пошла к печке и принесла еще горшок кислого молока и тоненькую лепешку.
- Наша мельница стоит, ветра нет, да вот, насобирали на полочках.
- Не волнуйтесь, - сказала Маруся. – У нас там, в торбе, есть свой запас.
- Так, может, хоть переночуете? – старенькая еще больше раздобрилась после того, как разжилась на гривни. – Места хватит всем.
- Нет, бабуню, мы торопимся на ту сторону.
- Торопитесь? Так почему же ты, старый, расселся? Хлопцы спешат, а ты чухаешься!
- Хорошо, - сказал дедок. – Переброшу вас на Плоты.
Он быстро собрался, и стал не белый, а серый – был в серых хромовых сапогах, серых штанах, а на голову накинул серую шапку-бирку. Дедок вынес из каморы длинные весла, еще и не очень хотел их давать Мирону нести, но Мирон настоял, и они пошли в темноте с хутора Вищенского в низину. Старый кутыльгал впереди, петлял, обходя бугры, за ним след в след ступала Маруся, а сзади важно, как болотистый журавель, переставлял ногами Мирон с веслами на плечах. Во влажном воздухе уже чувствовалось дыхание Днепра, пахло речной водой и свежей рыбой, откуда-то потянуло даже дикой мятой, видно, кто-то зацепил ее в прибрежной траве. Не удивительно, что весла у деда Чепурного были такие длинные, так как и лодка у него скорее напоминала баркас, если не Ноев ковчег – это был рыбацкий катер, а не какая-то плоскодонка. Дед посадил их обоих на корму, сам сел на весла – тут уже, хлопче, извиняй, тут нужно иметь особенный навык, и в самом деле, так опускал весла в воду умело, что неслышно было даже маленького шума.
И благоприятствовала им эта ноченька, или не благоприятствовала, но вдруг сквозь тучи прорвался край луны, и они увидели темную речку, увидели глянцевую гладь ночного Днепра, под которой, казалось, не было дна, как не было и берегов этого темного плеса, что мгновенно отразила в себе все перевернутое небо с его тучами и луной. Они не первый раз видели Славуту, но впервые встретились так близко с ее живой силой и глубиной. И от этого Мирон и Маруся, прикасаясь на корме один к другому, были словно как одно существо. И это чувство пронизало их так глубоко и остро, что они не успокоились даже тогда, когда месяц спрятался за тучи, и стало так темно, что они еле видели серого деда, который сливаясь с темнотой, махал и махал веслами, поднимая небольшой плеск. Марусина рука нервно сжала Миронову руку – с правой стороны в темноте, где-то, сажень за сорок, вспыхнули два огня. Дед Чепурной их успокоил: то на острове жгут костры рыбаки. Да, иногда тут переплывали катера или баржи, которых нужно остерегаться, а рыбаки – люди свои, из тех же Плотов, Козина или Таценков. Сидят они и под кручами, сказал дед, озираясь, так как на веслах сидел спиною к правому берегу. Ночь такая выпала, что грех не посидеть – видите? На том берегу также горело два огня, но на расстоянии они были небольшими, как будто бы светили глаза волков.
- Вы нас высадите там, где никого нет, - сказала Маруся.
- Можно и так, - согласился дед Чепурной, - только потом чтоб не обижались на меня. Там такое место, что и лисица не пролезет. Дикий хмель переплел деревья, кусты и
104
бурьян. Тропинку нужно будет прорубать топором или саблями.
- Это то, что нам и нужно, - сказала Маруся.
Махнув правым веслом, дед резко взял влево. Проплыли еще несколько малых островов, пока он развернул к берегу. Лодка, наконец, ткнулась носом в прибрежный песок.
- Счастья вам, дети! – попрощался старый. – Мне бы сбросить лет десять, то я бы пошел с вами. А так... оттолкните меня от берега.
- Передавайте привет атаману Черному! – сказала Маруся.
- От кого?
- Он знает.
Мирон поднял нос лодки, сколько было силы толкнул ее, и с одним дедком катер пошел по воде, как стрела. В момент он растаял в темноте, только легкая волна от весел накатилась на берег.
- Как будто бы приснилось, - сказал Мирон.
- Слушай, а мы не на острове, случайно?
- А что? Похожа на Пятницу? – спросила Маруся.
- Как две капли воды. Ты что, не смотрела в зеркало, когда красилась в сажу?
Вдоль берега над водою стоял камыш, за ним на суходоле находились кучки хвощовых зарослей, дальше поднимались деревья, подлесок был непроходим. Только они двинулись через кустарники к лесу, как за ноги начали цепляться батоги дикого хмеля, которые переплелись с ветками в крепкие жгуты. Крепкие жгуты вились на кустах шиповника, на стволах ольхи и лещины, и пройти тут тяжело было и днем (без сабли и топора), а в такую темную ночь и тем более. Даже большие птицы - или сычи, или совы, или вороны, спугнутые людскими шагами, слетали с тех зарослей тяжело, с сильным лопотанием крыльев, запутываясь в ветках и хмеле. Вслепую тут можно было забрести в лужу, или полностью провалиться в какое-то болото, поэтому они не имели другого выхода, как переночевать в этих зарослях, побыть в днепровских джунглях до рассвета. Хорошо, что в этой глуши можно разжечь костер, согреться, собрать веток для постели и поспать, словно в тепле и тишине. Где бы они еще пожили вот так вдвоем? Вдвоем, вдвоем, вдвоем... Благоприятствовала им темная ночь, благоприятствовала. Мирон еще раз удивился этому находчивому и сообразительному цыганенку, этой наикрасивейшей Пятнице, которая словно знала, что попадет на безлюдный остров, поэтому в ее торбе-едунце оказались спички, соль, сахар, ржаной хлеб, четвертинка сала и даже – ох, ты чудо мое колдовское! – карманный мешочек, величиной с кисет, настоящего кофе. Именно для кофе была в торбе еще и алюминиевая кружка с большой ручкой, которую можно ставить на огонь. Когда уже горел костер, они приготовили себе панскую постель: сперва приспособили лежанку из грубого сухостоя, поверх нее положили “синник” из веток, которые застелили камышом и лопухами. Примятое татарское зелье пахло горьким вкусом. Они еще раз пробрались чащами к Днепру, чтобы набрать в кружку воды для кофе. На этот раз идти им было легче, глаза привыкли к темноте, и оказалось, что река совсем близко, хотя им казалось, что они отошли от воды за версту. Они стояли на берегу перед черною бездною реки, которая поглощала взгляд, манила и пугала, как сманивает и пугает бездна.
105
- Помнишь, как я тебя искупала? – спросила Маруся.
- Я об этом только подумал.
- Хочешь еще?
- Вода уже не та.
- Чем холоднее вода, тем теплее из нее выходить.
И вдруг он застеснялся своего желания, так как понял, что она для этого и привела
его к реке.
Да, для этого, но, как только они выскочили из воды, Маруся подала ему крепкое полотняное полотенце, такое грубое, что когда Мирон растер им тело, оно дышало огнем. Они оделись (Мирон в мыслях еще раз поблагодарил коваля за теплую свиту), и, зачерпнув кружку воды, пошли к своему огню, пошли, словно к своему жилищу, которое временно построили себе на этом безлюдном острове. Мирону стало совсем легко, вода забрала не только усталость, а и боль в ногах, ему казалось, что он теперь лучше видит, как будто бы над ним посветлело затуманенное небо, и он снова вспомнил их ночь на берегу Плиски, увидел маленькую птичку плиску, вспомнил, как Маруся дала ему птичку, потом дала соколиный глаз, дала магический камушек, и услышал ее голос: “Еще волхвам он помогал видеть в темноте”. Теперь он и ему, Мирону, помогал видеть в темноте, помог выйти из плена и поможет найти свой курень. Он поставил кружку с днепровской водой на край жара, чтобы закипела вода. Маруся вырезала ножом две острые палочки, наколола на них тоненькие кусочки сала и дала один Мирону, чтобы держал над огнем. Сало шкварчало, с него стекали горячие капли жира на огонь, они подставляли под них куски хлеба и тешились, как дети, так это и была утеха всех детишек, особенно пастушков – жарить на огне сало. Он смотрел на ее чистое лицо, с которого Днепр слизал сажу, и думал, что это уже не цыганенок, или Пятница, это самая красивая на свете пастушка Хлоя, которая также жила на острове и была там наикрасивейшей девушкой. Перехватив его взгляд, Маруся спросила:
- Что – так плохо?
- Как?
- А! – она махнула на него рукой, передразнивая бабулю, которая точь-в-точь так махала на деда Чепурного. Обжигая губы, они ели поджаренное сало с ржаным хлебом, потом маленькими глотками пили кофе, передавая один другому кружку.
- Как ты думаешь, - спросил он, - наши дошли уже до Триполья?
- Нет, - ответил она. – Туда сорок верст.
Маруся подержала кружку между ладонями, грея руки, потом передала ему.
- Кофе чудесный, - сказал Мирон.
– Не волнуйся. О них позаботятся.
- Я не волнуюсь.
- Я вижу, тебя что-то удручает, - сказала она.
- Тебе так показалось.
- Через несколько дней они будут на месте. А ты еще раньше.
- Я знаю, - сказал Мирон, обижаясь на себя, что она угадала его настроение.
- Ты чем-то озабочен.
- Нет, я удивленный.
106
- Чем? – спросила она.
Он подбросил в костер палки.
- Никогда не думай, что на войне можно быть счастливым.
- Ты... про себя?
- Да, - сказал он. – Я люблю тебя.
Маруся молчала, но потом мило улыбнулась, так, что эта улыбка коснулась его, как теплый ветер.
- Иди ко мне, - сказала она. – Нам нужно отдохнуть. Впереди далекая дорога.
Мирон еще подбросил в огонь дровишек и сел возле нее.
- Ты не замерзла?
- Возле огня? – удивилась Маруся и расстегнула кирею.
- Какая эта свита коваля горячая, как хорошо.
- Горячая? – она снова усмехнулась той же милой усмешкою, что касалась его, как теплый ветер, но на этот раз Мирон не мешал, что она повторила “его” слово. Может, потому что Маруся немного не договаривала “р”, и оно у нее всегда выходило мягче. – Это ты горячий.
Он также расстегнул свиту и, притянув Марусю, спрятал ее в теплую пазуху, как зайчонка.
- Ты пахнешь Днепром, - сказала она.
- Для этого ты меня искупала?
- Тогда я об этом не думала.
- А о чем? О чем ты думала? – спросил он, вызывая ее на откровенность.
- О том, что ты глупый, - сказала она. - Не вижу, - сказала она, - я чувствую, что ты твердый и сильный.
- Я буду нежным с тобою. Ты мой зайчонок.
- Хочешь сказать, что у меня косые глаза?
- Не выдумывай, глаза у тебя немного раскосые. Это совсем другое.
- В школе хлопцы называли меня монголкою
- Я не видел лучших глаз, - сказал он. – Они у тебя, как...
- Как какие?
Он хотел сказать: как у скифянки. Но сказал другое:
- Как темно-синие цветы.
- Прижми меня крепче, - попросила она.
- Но я тебя съем, зайчонок.
- Съешь меня всю.
Ночь растянулась на весь свет, потом стиснулась в маковое зерно и выстрелила белым пламенем.
- Мама...
Пахло зерном и горько-пряным татарским зельем. Какое-то время они лежали тихо, он даже не слышал ее дыхания. Мирон лег на бок, лицом к огню, а ее снова спрятал у себя в пазуху, как зайчонка. Смотрел на костер, в котором перегорали дрова, костер проседал, но щедро делился жаром, подсвечивая желто-багряные листья на кустах и деревьях, за которыми стояли смоляные столбы осенней ночи.
107
- Люблю... – сказала она сквозь сон.
В ее голосе он почувствовал усмешку, которая коснулась его теплой лаской.
Лежал и боялся двинуться, чтоб не потревожить ее сон. Спала она осторожно, время от времени вскидываясь на писк трясогузки или далекий окрик ночной птички, и тогда, как ребенок, плотнее двигалась к его груди. Но тишина, именно тишина ночного леса, навевала феерическую тревогу. Мирону казалось, что не он ее слушает, а она, эта живая тишина вслушивается в него и слышит его мысли.
III
Мирон думал про свой курень, про Осипа Станимира и их армию, которая так уверенно взяла Киев, но вместо того, чтобы обеспечиться полученной у врага амуницией и пойти на Львов, вынуждена была, ободранная и босая, отступить, или попасть между двух огней. Неизвестно, по чьей воле, с какого такого демонского повеления они снова оказались на грани катастрофы? С севера – красные, с юга белые, а там, на западе, был еще и третий фронт, польский, которого им не обойти. Про наистрашнейшего врага Мирон еще не знал. Он думал про свою бедную мать Марию, про отца и брата, которых уже не было на этом свете, лежали они один на горе Макивцы, а другой на горе Лисапи, а он, Мирон, живым вернулся с той войны, чтобы сразу пойти на вторую. То уже была война за свою державу. В Станиславе, куда они добрались грузовым поездом, формировался украинский полк из бойцов- возвращенцев. Хлопцы из Коломны, Золочева, Николаева, Городенки скорее казались похожими на одетых в лохмотья скелетов. Они выходили из вагонов под мокрый мелкий снег наполовину босые, у многих ноги были обмотаны тряпками, а когда двинулись вечерним городом к казармам и кто-то запел: “Красную калину”, Мирон увидел чудо человеческого воскресения. Темные замученные лица вмиг прояснились, хлопцы стали выше ростом, их глаза загорелись чудным блеском. Одни пели, другие молились, третьи, прячась, вытирали слезы. Тогда в казарме вот также долго не мог уснуть, словно впереди было что-то необычное, неведомое, хотя ждала его снова-таки война, но война за самое дорогое, война, которая закончится скоро, так как они, эти ожившие скелеты из Коломны, Золочева, Николаева, Городенки, Стрия были больны Украиною, и эту боль могли исцелить только собственной кровью. Пускай их еще немного подождут матери, сестры, девушки, пускай извинят им эту задержку, зато они быстро одолев врага, вернутся к ним с желанною волею. После нескольких тяжелых боев, когда переходили город Рудкин, до сотника Станимира подошел священник с юношей.
- Я есть отец – диакон Ярослав Ковальский, - сказал он. - Имею единственного сына – гимназиста, но отдаю его вам. Пускай идет туда, куда идут все.
- Как тебя зовут? – спросил Станимир у хлопца с нежным лицом и тонкой, как у девушки, шеей.
- Титус, - немного взволновавшись, ответил юноша.
- Титус? Сколько же тебе лет, Титус?
- Шестнадцать.
108
- Отче, - сказал Станимир. – Ваш сын еще малый. Я не могу взять его в войско, хотя мы и проводим мобилизацию.
- Ваше войско есть народное, - ответил отец Ковальский. – Поэтому вы не имеете
права ему отказать.
Станимир подергал себя за правый ус. Хлопец стоял с готовым в дорогу наплечником.
- Прошу, побеспокойтесь за моего сына, пане комендант, - просил отец Ковальский отцовским голосом.
- Вы накладываете на меня непомерную ответственность, отче, - сказал Станимир.
- Я понимаю, но на все воля Божия.
Они пошли дальше, отец Ковальский стоял среди дороги и смотрел вслед бойцам и своему единственному сыну, но Титус ни одного раза не оглянулся. Он погиб в мае в период панического отступления, когда армия Галеры повела генеральное наступление по всему украинско-польскому фронту. Против их куреня шел вооруженный до зубов познянский полк. Вначале враг наступал тремя колоннами, потом его лавы слились в сплошную тучу, от которой повеяло смертельным страхом. Стрельцы вынуждены были оставить окопы. Титус Ковальский ненароком поднялся в полный рост и, удерживая перед собой винтовку с надетым на нее штыком, пошел вперед на врага.
- Назад!!! – закричал Станимир. Но Титус его уже не слышал, он шел, не оглядываясь, как тогда, когда вслед ему смотрел отец, отец Ковальский. Пуля попала ему в сердце, и Титус не успел понять, что его убило. Тогда вперед побежал Мирон – он слышал, как кричал куренной, чтоб вернуть его назад. Единственное, что еще мог сделать Мирон для Титуса – это вынести его тело с поля смерти. Вокруг так густо звенели и плескали пули, что от них наклонилась к земле трава. Титус был совсем легенький. Убитый стрелец всегда тяжелее живого, а Титус был легкий, как перо.
Глава двенадцатая
I
Их было трое, они стояли за несколько шагов от погасшего костра, двое держали наготове карабин, а у третьего был обрез, похожий на большой старинный пистоль.
- Руки вверх! Не дергаться!
Они неожиданно подкрались раньше утреннего рассвета, и хотя Маруся услышала их шаги и разбудила Мирона, дергаться было поздно. Осталось иметь надежду, что это пришли хлопцы, которых искала Маруся. Одежда на них была как у партизан – свита, сиряк, на головах смушковые шапки. Но теперь и партизаны были разной масти: от правдивых вольных казаков до криминальных и обольшевиченных отрядов. Эти трое были больше похожи на своих. Их команда “Руки вверх!” и смешные чертики в глазах подсказывали, что хлопцы воюют хитро и весело. Маруся подняла руки, заодно поправила фуражку, за ней и Мирон поднял “руки вверх”.
- Кто такие и что вы делаете в Гоще? – спросил лесовик с большими, словно крылья, ушами.
- Шпионы! – ответил вместо них тот, что был с куцопалом.
Он подошел к Мирону, растянул на нем свиту, обыскал со всех сторон и остался разочарованный – оружия у старшого “шпиона” не было. Зато другой, еще совсем зеленый хлопчиско, сам откинул полу киреи, где был спрятан револьвер. Положив его в своей карман, лесовик все равно потянулся обыскать хлопца, но тот его оттолкнул.
- Ты куда со своими граблями?
Маруся сняла шапку. Лесовики выкатили большие, как куриные яйца, глаза.
- Девка-а-а-а? – ушастый сбил шапку на затылок и его крылоподобные уши двинулись, как у коня...
- Я же говорил, что они шпионы!
- Да-а-а-а... А ну, потряси их торбу! – показал он на Марусину торбу-едунку.
- Мы такие шпионы, как и вы, - сказала Маруся. – Разве не видно?
- Видно! – произнес голос третьего лесовика, который до этой поры молчал.
- Видно, что вы замаскированные разведчики и вас нужно расстрелять.
- Успеете, - сказала Маруся. – Мы ищем вашего атамана и просим, во-первых, отвести нас к нему.
Просьба была рискованна тем, что Маруся не знала, кому эти лесовики подчиняются, а закон у повстанцев был один: если чужой зашел до их убежища, тогда его или разлучат с душой, или переносили убежище в другое место.
- Вы хотите видеть атамана? – снова обрадовался ушастый. – Так он вас повесит на первой ветке.
- Правильно сделает, - сказала Маруся. – Ведите, имеем дело к нему.
Не дав лесовикам даже подумать, Маруся взяла полотенце, которое сушила на кусте, и кинула его ушастому. – Разрежьте надвое и завяжите нам глаза, - сказала она. – И
110
быстрее, мы теряем время!
Ушастый, как завороженный, достал из-за халявы нож и разрезал вдоль полотенце.
- Климцю, кидай ту торбу та завяжи им глаза! – протянул он два куска полотенца своему братчику, который все еще копался в Марусиной торбе. Климцю с удовольствием занялся выполнять приказ, также не заметив, что Маруся им уже командует.
- Ты немой или не умеешь говорить по-нашему? – спросил он у Мирона, завязывая ему глаза.
С тех пор, как они накрыли эту парочку мокрым рядном, отбрехивалась только девка, а этот как воды в рот набрал.
- Немой, - сказала Маруся. – А теперь еще и не видит.
- Ничего, с нашим атаманом и немым заговорит, - сказал ушастый и рассмеялся подобно тому, как это делает ушастая сова: ху-ху-ху!
Они повели их кривыми волчьими тропами, впереди шел лесовик, который больше молчал, за ним Маруся, потом Мирон, за Мироном шел Климцю, который нес Марусину торбу. Замыкал эту цепочку ушастый – видно, был в тройке за старшего и обязан все держать под своим зорким глазом.
- Спасибо, что вы нас нашли, - сказала Маруся так искренне, что ушастому стало нехорошо: его охрана поймала шпионов, а они вместо того, чтобы дрожать от страха, еще и благодарят. Ушастый не имел сомнений, что это были разведчики, которые проникли в Гощу для разведки, но почему-то не почувствовал обычного в таких ситуациях удовлетворения, и от этого ему было досадно. Он решил пропустить благодарность мимо ушей, но Маруся точно также искренне поинтересовалась:
- Как это вам удалось?
- Что? – спросил ушастый, как будто бы не знал, о чем разговор.
- Найти нас. В такой глуши.
- На нюх взял, - ответил он с удовольствием. – Я в Гоще, как у себя в кармане. Цигаркой кто-то задымит, а я за версту почую. А тут, понимаешь, огонь развели.
- Так какие же из нас разведчики? – спросила Маруся. – Мы или вы?
- Хе, разведчики! – отозвался Климцю. – Если бы вы знали, какой у него слух. Он чует, как муха плямкает.
- Мне бы такие уши, то я слышала бы, как трава растет, - сказала Маруся.
- Ну-ну, ты моих ушей не трогай, - предупредил ушастый. – Лучше за своими смотри, чтобы не отлетели вместе с головой.
Он намеревался взять суровый тон, так как уже какой-то панибратский выходил разговор с этими сексотами, что успели пронюхать их Гощу. Им, видишь, атамана подавай! Что же, пожалуйста. Атаман как раз любит с такими, ху-ху, поговорить. С живых спустит шкуру и повесит на крючок сушиться. Они еще немного поводили пришельцев по кругу, так как гощевскими тропами долго не походишь, и привели их к землянке, спрятанной в густых зарослях. В лесу уже совсем развиднелось, из дымохода печки землянки, который выходил между кустов, выскакивали искры. Ушастый аппетитно потянул носом и сказал, что сегодня на завтрак у них будет кулеш с грибами, заправленный толченым салом. Он сперва сам зашел в землянку, чтобы убедиться, “дома” ли батько-атаман, а если “дома”, то не спит ли, а если не спит, то сможет ли разговаривать
111
с разведчиками, или прикажет повесить их без разговоров.
Через минуту ушастый вышел, отклонив тяжелую толстую попону, которая заменяла в землянке двери, сказал, что атаман готов принять гостей. Их завели в землянку с завязанными глазами, они ничего не видели, только чувствовали, как на них накатилась густая волна тепла.
- Ось! – весело сказал ушастый. – Полюбуйтесь на эту парочку, Мартина и Одарочку, ху-ху! – Но никто не засмеялся на его шутку. Настало короткое молчание, пока кто-то “любовался” на пленных. Потом тот “кто-то” приказал:
- Снимите с них повязки!
Климцю, который завязывал им глаза, теперь снял повязку с Мирона, потом с Маруси, и они увидели землянку изнутри. Это была обычная, темно-освещенная “лесная хата”. В ее правом, противоположном от входа углу стояла разогретая до красноты чугунная печка – от нее и расходилось тепло. К печке подходила глиняная труба с металлической плитой, на которой булькал большой казан, вероятно, с тем таки кулешом, что его учуял ушастый. На обшитой горбылем стене висел роскошный бронзовый канделябр с тремя свечами, вероятно, занятый у какого-то панского замка, который очень даже подходил к этой закопченной стене. Людей тут было немного. Марусю с Мироном завели в штабную землянку. Кроме ушастого и его двух братчиков, возле плиты стоял краснолицый кашевар с большой деревянной ложкой, может, такою, как уши у ушастого, те двое лесовиков сидели под стеной на мешках то ли с сахаром, то ли с крупами. Они с интересом посмотрели на пришельцев в предвкушении “веселого” разговора. Засмоленные, словно тот казан, что булькает на плите, лица лесников почти сливались с темнотой, которая стояла в землянке, и в этой темноте глаза их блестели, как у молодых оборванцев, которые неожиданно поймали добычу. Здесь только один человек был невозмутимый, его костлявое, заросшее густою щетиною лицо сковано обыкновенно безразличием. Он сидел немного в стороне от других, ближе к канделябру, сидел на перекинутом вверх дном ведре, и на его лице не дернулась ни одна жилочка даже тогда, когда Климцю по его приказу не только развязал “шпикам” глаза, но и сорвал с Маруси фуражку, показывая всем, что это замаскированная девка. Глаза лесовиков загорелись еще сильнее, разговор предстоял веселей, чем они ожидали, но мужчина с непроницаемым лицом вдруг ни с того ни с сего приказал, чтобы все покинули землянку.
- Оставьте нас наедине, - приказал он.
Когда разочарованные лесовики невольно – как-то вяловато и с неохотою – вышли на улицу (растерянный кашевар пошел на улицу на свежий воздух с ложкой), мужчина посмотрел строгими глазами на Мирона.
- Вы тоже.
- Что? – не понял Мирон.
- Оставьте нас наедине!
Мирон насторожился, он уже был готов сцепиться с этим москалем, который каким-то чудом атаманил тут над блудными овцами, но Маруся коснулась его руки и сказала, что так нужно. Они с атаманом должны поговорить один на один. Когда Мирон вышел, атаман Дьяков спросил:
- Как прошла операция?
112
Маруся поблагодарила его за помощь, за цыган с кибитками и сказала, что у нее к Дьякову будет еще одна, последняя просьба. Он спросил, кто этот молодик, что пришел с ней. Маруся ответила, что сосед пленных один галичанин был в кандалах, поэтому его пришлось взять с собой в кибитку. Не тот ли это галичанин, спросил Дьяков, что подарил вам австрийский штык с золотой ручкой? Я знаю о вашей просьбе, сказал Дьяков. Вы имеете в виду двое верховых коней? Да. Одолжите мне, если можете. Я верну. Проводник нужен? Только до Германовки. Где мы с вами встречались. Дальше я знаю дорогу. Германовка близко, сказала она. И еще б... револьвер. Один есть, он у Климця, а нам в дороге не помешало бы и два. И две гранаты Мильса, сказал Дьяков. На всякий пожарный случай. На его костлявом лице появилась холодная улыбка.
II
“Пожарный случай” случился с ними почти в конце дороги, и случилось это возле городка Плисков, который каким-то чудом назывался, как и их любимая речка Плиска. Лежал этот городок с тремя водяными мельницами на берегу Роськи. Гощу они покинули в светлое время, сев на “занятых” у Дьякова верховых коней. Мирону достался гнедой, длинный и широкий в спине жеребец, на котором легко можно было разместиться вдвоем, а Марусе достался конь серый и худой, как черт, зато легкий в ногах. До Германовки их провожал ушастый, который был разочарован и даже немного обижен, что “шпики” оказались своими людьми, поэтому даже не вступал с ними в разговор. Да и не было надобности разговаривать в седлах. Ехали вначале лесом, мимо Таценки, потом, обогнув обуховские холмы, на рысях двинулись через поля, где ушастый время от времени вырывался далеко вперед, как дозорный.
Уже стемнело, когда за Вильшанкою Маруся сказала, что дальше она знает дорогу и, поблагодарив ушастого за помощь, спросила, как его звать.
- Сироманец, - ответил он.
- Красиво! Это кто тебя так окрестил?
- Батько.
- Батько-атаман?
- Он, - широко, аж до ушей, улыбнулся Сироманец.
- Не гневайся, Сироманцю, - сказала Маруся. – Но у тебя очень красивые уши.
- Какие есть, оба мои.
- Я не шучу, - сказала она. – Мужчине очень идут такие уши
- Та ну тебя!
Он развернул коня и галопом погнал назад. Маруся помахала ему вслед фуражкой. Легкими тропами они подались на юго-запад. Уже в темноте они проехали мимо Гребенки, а еще верст через двадцать доехали до села Великополовецкое, на въезде которого Маруся находилась, говоря словами Сироманца, как в собственном кармане. Хотя однажды именно в этом “кармане” ее с казаками находила рука смерти. Но потом случилось чудо. Тут на их дороге стоял один из небольших лесочков, где удобно было остановиться на отдых. Они спешились возле родника, который наполнял колодец, а
113
дальше вода ручьем текла в лесную низину. Можно напиться людям и коням. Возле колодца стояло два пенька – кругляки, которые кто-то поставил тут, чтобы в хорошую пору посидеть. Пустив гнедого с серым пастись, они развели небольшой огонь, а Маруся заварила кофе.
Впереди лежала еще неблизкая дорога. Эта ночь также выдалась теплой, низкие оловянные тучи затянули все небо, но дождь не предвиделся. В воздухе стоял прелый дух осеннего леса.
- Как ты? – спросила она, глядя на Мирона из-под кружки, которую держала в ладонях.
- Хорошо! А ты?
- Прекрасно, - ответила Маруся, и он почувствовал ее теплую улыбку, что касалась его, как легкий ветерок.
Это была та минута, когда хотелось сказать очень многое, но не хватало слов. Он взял Марусину руку в свою. Ее холодная ладонь была маленькой и твердой. Он прикоснулся к ней губами и почувствовал такую нежность, что ему сдавило дыхание.
- Неужели это правда? – спросил он.
- Не думай об этом, - сказала она. – Пока мы вместе, не думай, что будет потом.
Так было часто: он спрашивал об одном, а она переводила разговор на другое. Под черною тенью ночи ее лицо было еще более загадочным. Он думал, что никогда не поймет Марусю до конца. Если бы судьба выделила им сто лет, он бы и тогда не знал ее больше, чем уззнал сейчас.
- Очень тихая местность, - сказал он.
- Да, место чудесное.
- Ты была тут раньше?
- Конечно. Мне этот колодец показывал мой суженый.
- Хто-о-о?
- Суженый.
- Кто он? – спросил Мирон, надеясь услышать, что это шутка, но Маруся сказала: - Тотиевский атаман Оверьян Куровский.
- Он... погиб?
- Нет, живой.
Помолчав, Мирон сказал:
- Я все равно буду любить тебя.
- Это хорошо, любимый!
- Я чего-то не понимаю, - сказал он.
- Именно тут, когда мой отряд попал в переплет, на помощь и пришел Оверьян со своим отрядом. Потом казачня смеялась: Куровский повенчался с Марусею.
- А он?
- Также смеялся.
- От счастья?
- Да. Оверьян счастливый. У него жена и двое детей. Извини, вероятно, мне не нужно было этого рассказывать. Я не знала, что это побеспокоит тебя. Просто вспомнилось.
114
- Но знай: чтобы с тобой ни было, я все равно тебя не разлюблю. Ты же этого хотела?
- Нет, - сказала она. – Я хотела, чтобы нам легче было прощаться.
III
Объезжая села и хутора, проехав Трушки, Яблунивку, Березну (левее осталась Белая Церковь, а по правую руку отдалялась Сквира), они ехали по полям, буеракам и, наконец, выскочили на битую дорогу. Глубокой ночью обогнули Гайворон и еще до рассвета добрались до городка Плисков. Переехав речку Росоку, Маруся решила ехать по гребле возле водяной мельницы, что стояла почти вплотную у Фрузиновского леса. Оставив Мирона с лошадьми на поляне леса, она пошла разведать переезд: именно на мосту и плотинах чаще всего стояли заставы. Кошачьим шагом Маруся подкралась к мельнице, которая словно висела в ночной темноте, глядя на речку двумя маленькими, как бойницы, окошечками. В них было темно, нигде ни одного звука, только где-то внизу возле спусков, тихонько плескалась вода, которая сочилась через заводи. Найдя под ногами камень, Маруся зашла за куст верболаза, прислушалась, взвесила камень на ладони и кинула его на плес. Он упал так громко, что кони, которых Мирон держал за уздечки, дернули головами. У Мирона также что-то сжалось в груди, он еще сильнее напрягся, вслушиваясь в тишину. Маруся подошла к нему, как тень.
- Как будто бы нет никого, - шепотом сказала она. – Двигаемся.
Сев на коней, они пустили их по плотине тихой поступью. Маруся почувствовала, как на них смотрят два небольших, как бойницы, оконца. Но на них смотрели с другой стороны плотины. Как только переехали плотину, как из-за рва, поросшего рогозою, вырвался крик:
- Стой! Пароль!
Если бы они были не на конях, то, вероятно, прикипели бы к земле. Но серый с гнедым только качнулись в сторону и ускорили шаг.
- Свои, разве не видите! – Маруся ответила не своим голосом.
- Пароль! Или будем стрелять!
- Пятый раз проезжаем здесь, а ты не можешь запомнить, болван! – огрызнулась Маруся.
Она резко взяла вправо, ударила серого пятками сапог и, дернув поводьями, припала к гриве коня. Серый пошел в карьер. Гнедой, хоть был не такой быстрый, но сразу рванулся за серым. Воздух разразила пулеметная очередь. Мирон, обернувшись, бросил в ров гранату. Попал или нет, но взрыв подстегнул их коней и на какое-то время затих пулемет. Потом он снова прорвал пелену ночи, и теперь надежда только на темноту, в которую они нырнули, словно в воду. Может, кто-то бы прицелился в топот копыт, но как он их услышит, если перед носом строчит пулемет? Стреляли, понятно, наугад. Пули свистели где-то вверху, потом затюкали ниже. Марусе послышалось, как хрипло гикнул Миронов конь и всем своим длинным туловищем брякнулся об землю. Развернув серого, она увидела, что гнедой скользит по траве уже мертвый – без ржания и хрипа. Мирон
115
вскочил на ноги.
- Ты целый? Прыгай!
Он увидел, что Маруся освободила свои стремена, и понял ее команду. Схватившись за луку седла и попав ногою в стремена, Мирон взлетел на круп коня позади Маруси. Серый немного присел, потом выровнялся и помчал на легких ногах, как бешеный. Стрельба сзади утихла, но серый бежал и бежал, пока не засопел, начал хрипеть и оседать на колени. Маруся его остановила, они с Мироном спрыгнули на землю. Прислушались, нет ли погони, но слышали только хриплое дыхание серого, который от мыла посерел еще больше. Прищурив глаза, он трусился на разгоряченных ногах, как новорожденный жеребец.
- Ну, все, все, - Маруся гладила его мокрую шею. – Хороший, хороший...
Они долго стояли посреди поля, так как после такого сумасшедшего галопа Маруся не могла сориентироваться, куда идти дальше. Нигде ни села, ни скирды, ни дерева, вокруг тьма и черное небо без единой звездочки, которая подсказала бы дорогу.
Маруся достала из привязанной к седлу торбы-едунки два кусочка сахара и поднесла серому. Дыхнув ей в ладонь теплом, он взял мягкими губами лакомство. Сперва схрумкал одну грудочку, потом так же точно слизал с ладони другой кусочек. Ноги у серого выпрямились и перестали дрожать.
- Давай отойдем, - сказала Маруся. – Ему нужно побыть одному.
Серый постоял, тряхнул головой, потом заострил уши. Переступив с ноги на ногу, он повернулся в другую сторону и высоко поднял голову. Его уши навострились, как штыки. Серый ударил копытом об землю.
- Как ты думаешь, куда он смотрел? – спросила Маруся.
- Туда, где упал гнедой?
- Нет, он смотрел в ту сторону, откуда пришел. А это значит, что нам нужно идти в противоположную сторону.
- Так и пойдем, - сказал Мирон.
- Если мы наскочили на заставу, то наше войско где-то близко.
Он взял серого за повод, и они неспешно пошли через поле. Иногда они останавливались, вслушивались и вглядывались в темноте, не покажется ли где село, хуторок или еще какой-нибудь знак, который подскажет Марусе дорогу. Так они прошли несколько верст, то спускаясь в балку, то поднимаясь вверх, и снова шли равниной до тех пор, пока не увидели впереди себя стену, еще чернее ночи. Стена эта оказалась подсолнечным полем, на котором густо стояли сухие стебли высотой в человеческий рост. Пробираться через подсолнечник ночью было не намного легче, чем через гощевские заросли, поэтому они решили его обойти. Взяв влево и немного пройдя, вдруг увидели по другую сторону поля красное зарево – оно то поднималось высоко вверх, то оседало, совсем пропадая за черной стеной. В это зарево кто-то подкидывал подсолнечные стебли. Вероятно, там грелись люди, которые, возможно, стояли лагерем. Но кто? На этот раз Мирон предложил, что он уйдет от нее и, оставив Марусю с серым, пошел на свет зарева. Между стеблями подсолнечника он пробрался на другую сторону поля, там он на малом расстоянии рассмотрел людей, которые собрались вокруг костра. Притаившись в густом подсолнечнике, Мирон почувствовал себя совсем в безопасности, так как даже если бы
116
вышел в поле, вряд ли бы его кто-то увидел. Возле ночного костра люди не видят ничего, потому что огонь слепит глаза. А если кто-то его увидел, то, вероятно, не обратил бы на Мирона внимания, потому что он ничем не отличался от хлопцев, которые грелись возле огня, так как это были стрельцы из его бригады, хлопцы из 3-го куреня Данила Бизан, который был Мироновым земляком, как и старший десятник из Надытычива Ромко Панчак, который, находясь на стрелецкой охране, крикнул кому-то, если не себе самому: “Ствол!” – и это был пароль, который уже слышал в своей жизни поручик Горняк из Драговижа. Это был надежный военный пропуск, от которого у поручика Горняка сжалось сердце, а потом и горло. И стоял он один как перст среди бескрайней ночи под черным бездонным небом, и не знал, куда ему сперва бежать: или к стрельцу Данило Бизану, чтобы расспросить, где его шестой курень, где Станимир, где их армия, где их измотанная доля? – или бежать, сейчас уже, сколько есть духа, через подсолнухи к ней... ней... ней, что ждала его вдвоем с серым... с которой ему осталось побыть... сколько?.. минуту?.. две?.. сколько, сколько, изменница судьба, ты позволишь побыть им вдвоем, чтобы они попрощались? Сквозь ночь, сквозь темноту, только из его шагов, из того, как шел к ней поручик Горняк, Маруся все поняла.
- Свои?
- Да, галичане, - выдохнул он. – Даже моя бригада.
- Ты как будто бы подрос, - сказала она. – Я рада за тебя.
- Ты мое чудо.
- Нет, я твоя невеста.
- Когда еще случится побыть вместе? – сорвалось у него то, чего не хотел говорить.
- Я и так с тобою, - сказала она. – Я возле тебя буду всегда. Ты же не потерял соколиный глаз?
- Нет, он всегда со мной.
- И я всегда буду с тобой.
Он мимоходом оглянулся. Посмотрел туда, где светилось зарево, словно боялся, что оно исчезнет.
- Иди, - сказала Маруся. – Иди, и знай, что я возле тебя.
- Гнедого жаль, - вдруг сказал он. – Хороший был конь.
- Не мучай себя. Иди.
Мирон взял ее голову между своих ладоней, хотел глубоко заглянуть в глаза, но видел только тревожный блеск. Он судорожно и как-то небрежно стал целовать ее лицо – родинку, губы, глаза, волосы (упала на землю фуражка), и это уже были горькие поцелуи прощания. Маруся подхватила с земли фуражку, надела ее низко на лоб и вскочила на коня.
- Я найду тебя, любимый, найду! – сказала она, разворачивая серого. – Мы встретимся.
Сильный горячий ветер ударил ему в лицо. Серый понес Марусю в темноте твердой полевой целиной, от которой стучали копыта. Тот звон звучал на весь свет и бил Мирону в грудь. Затем вдруг оборвался... Боже, он же ей не сказал главного. Он же совсем растерялся, не сказал ей того, что хотел сказать давно, да почему-то не решался, держал это в себе до какого-то высшего откровения. Сказанное могло объединить их даже
тогда, когда он погибнет. Не сказал, не сказал, не сказал.
Глава тринадцатая
I
Сотника Бачинского поручик Горняк Мирон нашел утром на хуторе Очеретяном в хате местного мельника, который тот отвел им под штаб куреня. Не такой представлял их встречу Мирон. Василий был озадачен, и даже более того, нервный. Он обрадовался возвращению Мирона, обнял его, как старого приятеля, но когда время пришло для разговоров, вздохнул, развел руками, потянул себя за правый ус. Хороших новостей не было. Кажется, до сих пор, как и большинство старшин и стрельцов, не приходил в себя после отступления из Киева. Значительно сказалось на военных действиях белых и красных то, что захватив Житомир, галицкая Начальная команда остановила изнурительные бои с большевиками, а потом направила главный удар на Добровольческую армию. Когда-то Москва была одна, а теперь имеем две. Таким образом, переходя от одного давления против другого, их корпус остановился на рубеже Липовцы-Погребище. Тут они, наконец, намеревались провести среди местного населения мобилизацию. Однако люди потеряли веру, сказал Станимир, это уже не те селяне, которых они видели во время похода на Киев. Может и было бы больше желающих, если бы было их во что одеть, обуть и выплатить хоть какую-нибудь деньгу, а то такая бедность, хоть кричи. Бачинский мимо воли глянул на Мироновы разбитые ботинки, над которыми даже не было обмоток.
- А те новобранцы, что согласились, они как? – спросил Мирон.
- Ну, те, которые идут воевать, независимо от нужды, без денег, всегда были хорошими бойцами, - сказал Бачинский. – В наступлении они ничем не хуже нас. А когда отступаем... закисают. Деникинцев Антанта так обеспечила, что нам бы их добра хоть бы частичку. У них самое новое оружие, отборная кавалерия, амуниция, продукты, теплая одежда и... лекарства. Лекарства в настоящее время важнее пушек. Имеем еще одного смертельного врага. Тиф. Уже и наш курень зацепила нечистая. Отсутствуют и лекарства, и врачи, и больницы. Каждый день помирают...
- Пане сотнику, я вас прошу! – вмешался в разговор находящийся здесь штатский писарь Осип.
- Что? – поднял на него брови Бачинский.
- Не говорить, что положение такое безвыходное.
- Я разве говорил, что безвыходное? Хотя...
- Бывало еще хуже! Бывало положение полностью безвыходное, а мы поднимались. Поднимались почти из праха. Забыли?
- Хорошо! – сказал Осип. – Живем весело! Каждый день помирают десятки людей, зато еженедельно в Липовцах, Бари, Виннице, Жмеринке стрельцы идут под венец!
- Как под венец?
- Женятся!
- Шутите?
119
- Чего б это я шутил? Так есть!
- Может, это хорошо?
- А в чем зло? Война войною, а жизнь жизнью, - повеселел Василий. – Если женятся, значит, имеют вид на будущее. Только вы имейте в виду, пане поручик: надумаете идти под венец, то должны иметь не только справку с места крещения, но и письменное разрешение от коменданта! Вот, посмотрите.
Он достал из кучи бумаг несколько листов и бросил на стол перед Мироном.
- Прошу!
Это был стрелецкий, писаный от руки еженедельник “Развлечение”. Осмотрев титульную страницу, Мирон по старой привычке посмотрел и на последнюю страницу и увидел столбец объявлений. Одно из них, объявление было написано красивым каллиграфическим почерком, было подчеркнуто карандашом: “Блондинка с особыми приметами ищет близкого знакомства в целях свадьбы, начиная не меньше, чем от сотника. В случае отсутствия такого звания может быть и хорунжий при интенданте”.
- Ну как? – глаза Бачинского, наконец, засветились.
- Гм... - деликатно прокашлялся Мирон. – Кажется, я знаю такого мужчину, какого хочет эта блондинка... Не ниже сотника, гм. Не он ли сам подчеркнул объявление?
- Не так вы поняли, пане поручик!
- Да нет, пан сотник, он мой хороший товарищ, и я бы хотел быть уверенным, и хотел бы знать, что именно имеется в виду под особыми приметами. Или она молоденькая, или вельможная пани, или симпатичная женщина.
- А вы, пан поручик, какую хотели бы?
- Да мне, в общем, не хочется говорить о таких курьезных вещах, но если бы из вышеназванных панночек слепить одну, то было бы в аккурат. И еще можно было бы согласиться с теми особенными приметами, которые назовет мой добросовестный комендант. Но...
- Хорошо, есть! – сказал Бачинский. – Он такой хороший товарищ, что заслуживает от меня презента!
Он достал из-под лавки хозяйственный мешок, порылся в нем, и вытянул пару новеньких коричневых ботинок. Это были большие, тяжелые ботинки, даже лучше английских штиблет с гетрами вместо обмоток.
- Держи! – сказал Бачинский. – Это все, что я смог достать для тебя у Деникина. Будет тебе компенсация за плен.
- Семь раз благодарю, - Мирон с удовольствием взвесил в руках ботинки. – В таких можно идти под венец.
- Да! И еще мне достался один знаменитый трофей, - похвастался Василий, - я вынес из Киева настоящую драгоценность.
- Драгоценность? Из Киева?
- Ну! Из самой Думы! – он так усмехнулся, словно укусил кислое яблоко.
- Покажите, наш сотник!
- Еще не время, - сказал Василий.
120
II
К Несмиянову их поехало трое: Ангел, Пята и Маруся. На встречу были еще приглашены Лихо, Бугай, Шум и Голуб, но атаманы решили, что проведут переговоры двумя группами раздельно. Потом они согласуют, как им повести себя дальше, а пока что так будет надежнее. “Нос к носу”, как говорил Ангел, они встретили Несмиянова на “нейтральной территории” в урочище Пасички, ближе к Попильне – как раз в том направлении дрейфовала восставшая против коммуны Группа войск. К зимовнику, который принадлежал пасечнику Глухенькому (свояку Пяты), они подъехали в полдень. Это была тихая балка, засаженная липами и акацией, пригодная для такой встречи тем, что она вокруг проглядывалась через поле на большое расстояние. На дне балки стояло несколько небольших хозяйственных зданий, огороженных забором, да с полсотни ульев, раскиданных между деревьями старого яблоневого сада, что уже скинул с себя листья. Выставив охрану из девяти своих сторожей вокруг урочища, атаманы подъехали к деревянной, крытой соломой хате. Возле дверей их встретил пасечник Глухенький – уже пожилой человек с безразличной усмешкой на твердом, как камень, лице. На приветствие пришедших он даже не кивнул головой, словно боялся смахнуть с лица свою окаменевшую усмешку. По какой-то непостижимой прихоти судьбы пасечник Глухенький был глухонемым, и это, говорил Пята, неплохой, как по современному определению, знак для человека, у которого можно спрятаться от людского глаза. Без совпадений, почти одновременно с ними прибыл Несмиянов, также с тремя адъютантами, но двое из них оставили коней в акациях, дальше за плотом, а один подъехал к зимовнику вместе с командиром. Ангел его сразу узнал – это был один из представителей Несмиянова, с которым он встречался в Козятине. Что касается командира, то все его узнали издалека по широченной в плечах кавказской бурке (точно такой, как у Ангела) и длинноногом вороном дончаке. Главнокомандующий Группы войск Несмиян (так он себя назвал) оказался молодым, энергичным мужчиной, из которого аж брызгало хмельною простотою. Черная клиновидная бородка и небольшие, закрученные вверх усы намекали на “простого хлопца”, у которого что на уме – то и на языке. Казалось, он радовался этой простоте и, не собираясь никому подыгрывать, подчеркивал ее на каждом шагу. Уже в зимовнике, сняв бурку, он свободно бросил ее на лавку. Несмиян назвал себя неисправимым хохлом и, разговаривая русско-украинской мешаниной, похвастался, что когда-то он также был повстанческим атаманом, поэтому они быстро найдут общий язык. Он даже успел повстречаться с галичанами, которые стояли по дороге их движения возле Чуднова, но после переговоров пропустили Группу в направлении Сквиры. Больше того, галицкий командир корпуса полковник Вольф хлопотал перед высшим командованием о перевозке Группы в Козятин железной дорогой, но у галичан не было вагонов. Как-никак речь шла о перевозке двух тысяч людей и пятисот коней. В зимовнике пахло медом, вощиною, тут и там на лавках стояли старые потемневшие рамки, лежали кружки перетопленного воска, кривые пасечные ножи, дымор, сетчатая пчелиная маска. Весь угол возле полки занимала медогонка – большая деревянная бочка с похожим на колодезный коловоротом.
121
Когда сели за сбитый из неструганых досок стол, Ангел, прежде чем перейти к главному, сказал, что ему кажется, как будто бы они с Несмияновым где-то уже встречались. Он не вспоминает? Несмиян ясными глазами посмотрел на Ангела.
- Если скажите где, то, может, вспомню.
Ангел сказал, что они могли видеться в прошлом году в Конотопе, когда оттуда выкуривали гетманцев вместе с немцами. Тогда на железнодорожной станции металось много атаманов. Несмиян согласился, что такое могло быть, в то время он возглавлял партизанский Нежинский полк. Он не сказал, что полк был красным, но сейчас это не имело особого значения. Тогда и “курень смерти” атамана Ангела назывался красным.
- А-а-а! Помню, помню! – вдруг сказал Несмиян. – Вы сидели тогда в железнодорожной канцелярии и угрожали начальнику станции отрезать ему голову саблей. – Несмиян посмотрел на Марусю и повторил: - Угрожали зарезать его. Было дело?
- Было, - с удовлетворением засмеялся Ангел. – Он, сукин сын, спрятал тогда вагон оружия.
- На вас был красный жупан! Правильно?
- Вспомнили, - сказал Ангел.
Разговор стал более доверчивым, и Ангел спросил у Несмияна о составе его Группы. Несмиян ответил, что в Группе в большинстве находится Заднепровский полк, где немало великороссов, но все они люто ненавидят большевистскую тиранию и хотят казацкой вольницы. Никто не против советской власти, только пускай советы заведут народные порядки без коммунистов, чекистов и комиссаров. Если по правде, сказал Несмиян, то его Группа прорывалась на соединение с батьком Махно. Но поскольку батько сейчас далеко, за линиями двух фронтов, то почему не объединиться с местными партизанами? Правильно?
- Что вас особенно толкает на такой рискованный шаг? – спросила Маруся.
Несмиян очень мило ей улыбнулся и сказал, что это лишний вопрос, так как ответ на него развеет все их сомнения. Он достал красивый серебряный портсигар и попросил у “барышни” (или оговорился, или, может, по своей простоте преподносил это проявление особенной галантностью) разрешения закурить. Услышав согласие, протянул портсигар Ангелу и Пяте. Ангел отказался, а Пята взял фабричную папиросу, дыхнул в трубочку и демонстративно подождал, пока главнокомандующий поднесет ему спичку.
- Ответ очень прост и понятен, - сказал Несмиян, пустив в потолок голубую струйку дыма. – В Красной армии ныне звереет террор против командиров, которые так или иначе были связаны с восставшими – не имеет значения, с красными или петлюровскими. Все они, по твердому убеждению Главковерха Троцкого, пропитаны духом анархии, и исправит эту контру только могила. Троцкий озверел, его агенты уничтожают самых лучших командиров. Он не решается открыто арестовать авторитетных военачальников, чтобы не разозлить военные части, поэтому через особые отделы прибирает их тайно. Так, только в июле-августе был отравлен командир Таращанской бригады Боженко, потом ликвидировали командира Новгород-Северской бригады Черняка, после Черняка застрелили в затылок начдива Щорса. Возможно, Троцкий нутром чувствовал, что эти командиры, раскусив коммуну, повернут оружие против нее.
122
И приведенные убийства переубедили Несмиянова, что ему с большевиками не по дороге. Он как бывший повстанческий атаман понял, что не сегодня-завтра придет и его очередь. Пята поинтересовался, как Несмиянову удалось повести за собой столько войска. Ведь среди такой оравы (Пята специально назвал Группу оравой, чтобы главнокомандующий не очень радовался) могли найтись и доносчики, и трусы, и всякая большевистская сволота, готовая продать тебя за кучку табака. Подошел подходящий момент, сказал Несмиян. Противобольшевистские настроения давно овладели целыми частями нашей дивизии. Это уже видели и наверху: нас обвиняли в развале дисциплины, распутстве и неприязни к жидам.
- А что – было дело? – перебил его Пята.
– Если и было, то это вина тех, кто делал им такие обиды, - сказал Несмиян.
Словом доконали и постановили перебросить их, как ненадежный элемент, как можно дальше с Украины. Запроторить аж на Восточный фронт, то есть, выслать в Сибирь. И то еще неведомо, или против Колчака, или вообще намеревались от них избавиться, как от паршивых овец. Поэтому осталось бросать клич. Он, Несмиян, этот клич бросил и дезертировал с двухтысячной Группой войск. Теперь назад ему дороги нет. Именно этим он и вызвал наибольшее доверие: Несмиян сжег за собой мосты. Полторы тысячи штыков и пятьсот сабель говорили сами за себя – для агентурных каверз или диверсионных рейдов такого численного войска в вольное плавание не выпроваживают.
- Почему вы предлагаете объединиться против деникинцев? – спросил Ангел. – А с большевиками как?
- Пока шо...
Несмиян не успел досказать, о чем хотел, так как с улицы донесся громкий треск. Он как конь, качнул головой, его рука интенсивно легла на кобуру. Пята вышел на улицу, но сразу же вернулся и сел к столу. Он сказал, что хозяин, его свояк Глухенький, с чего-то начал рубить дрова. Он же, бедный, не слышит, что полено отлетело с таким звуком, словно кто-то выстрелил из винтовки. Пята попросил свояка прекратить “стрельбу”.
- Пока шо надо расправиться с белыми, - продолжил Несмиян. – А там дойдет очередь и до большевиков.
Он сказал, что деникинский фронт ныне более важный и для украинской армии. Об этом шел разговор на переговорах с галичанами. Комбриг Бизан трижды останавливался на том, что они пропускают их на Ружин для того, чтобы Группа ударила в тылы белых.
- Как вы относитесь к украинской идее? - спросил Ангел.
Несмиян сказал, что это его не волнует. Ему безразлично, или будет великая Россия, или будет вольная ненька Украина, только бы власть принадлежала вольному народу. Без царя, без коммунистов, чекистов и комиссаров.
- Откуда вы родом? – спросила Маруся.
- Это имеет значение? – удивился он.
- Имеет. Но если не хотите, можете не отвечать.
- Из Черниговской губернии. Вас это устроит?
Маруся посмотрела на Ангела: мол, твой землячок. Если не брешет. Ангел был уверен, что Несмиян говорит правду. Но Черниговская губерния большая. Пята поинтересовался, что собой являет их конница. Конники добрые, сказал Несмиян.
123
Большинство из них крымские татары. И кони – змеи. Тогда Маруся спросила, как они, таким числом, собираются обеспечить себя продуктами и фуражом. Сядут на шею селянам? Пока что не жалуемся, сказал Несмиян. Много чем можно поживиться в деникинских обозах. Рассчитываем на поддержку городских лавочников. Бердичевские обещают помочь нам боеприпасами. Они не знают, кто мы на самом деле. Потом Несмиян, шутя, поинтересовался, имеет ли он право кое о чем спросить. Например, почему на эту встречу не приехали другие атаманы.
- У них дела, - сказал Ангел. – Днями они встретятся с вами. – Скрипнули двери, зашел пасечник Глухенький и поставил на стол миску с нарезанными сотами. Вероятно, он только что порезал рамку.
- Вот видите, - сказал Несмиян, мило улыбаясь Марусе ясными глазами. – А вы волновались за продукты. Между прочим, я вас тоже могу угостить. Аверкий! – обратился он к своему адъютанту, который все время молча сидел на лавке. – Поди, принеси.
Оверко принес бутылку светло-коричневого напитка, хлебину и слюдяной сверток. Вот чего они уже давно не видели – в оберточной бумаге оказались три жирные селедки.
- А это что – узвар? – Пята, не обращая внимания на селедку, с подозрением смотрел на бутылку.
Несмиян сказал, что ее передал ему один человек, этот напиток, как настоящий французский коньяк, но на самом деле это гороховая настойка. Но ничего, пить можно.
- Это еще, куда ни шло, - говорил Пята. – Мне когда-то гайсинский шинкарь вручил вместо коньяка луковый отвар.
- Не понял, - сказал Несмиян.
- А что тут понимать? Сивуху развел луком. Тем, что красят яйца на Великдень. Вы такое слышали?
- И шо? – спросил Несмиян.
- Выпили, шо ж, - сказал Пята.
- Я спрашиваю про шинкаря.
- Та ничего, окрестил его, та и все. Мы люди культурные.
- Не понял, - сказал Несмиян. – как окрестили?
- Плеткой, как же еще... Отделался плетками, шельма...
Пята жестами показал свояку Глухенькому, который находился возле полки, чтобы тот нашел, из чего пить “коньяк”. Пасечник поставил на стол чарки, а Марусе подал кварту воды. Она понимала, что он приглашает ее покушать воск, который нужно запивать холодной водой. Вощина была темная, старая, и мед в ней также был давний и выстоянный.
- Это интересно, - сказал Пята. - Мед с селедкой.
Пасечник Глухенький посмотрел на стол, потом перевел взгляд на свояка Пяту: не нужно ли им еще чего-нибудь? Пята покачал головой и жестами спросил, не выпьет ли он с ними чарку. Глухенький сморщил нос и пошел к дверям. Возле дверей он остановился, потом, обернувшись, посмотрел на Марусю. На его лице снова появилась чудная, едва заметная улыбка. Он знаками еще раз попросил Марусю угощаться медом. Она взяла нож, отрезала от рамки маленький кусочек и, положив его на язык, прикрыла глаза – показала пасечнику, как ей сладко. Он радостно закачал головой, потом что-то “проговорил”
124
руками и пошел на улицу. Было удивительное чутье. Маруся подумала, что пасечник Глухенький сказал ей совсем не то, что она поняла из его жестов. Или, может, хотел сказать. Маруся уже готова была выйти следом за ним, но ей показалось, что все поймут, почему она так быстро схватилась с места. Удивительным было это чутье. К тому же Несмиян, наполняя чарки, вдруг сказал такое, что она задержала дыхание. Он сказал, что недалеко отсюда, против деникинцев стоит еще один галицкий корпус. Он, Несмиян, уже нашел с ним связь. В целом возможно, что его Группа войск будет иметь совместный фронт с галичанами. Иногда одно слово может изменить отношение к человеку. Маруся подумала, что если бы Несмияну обрить бороду, а кончики усов опустить вниз, он был бы красавцем. Она все-таки оставила мужскую компанию и вышла на улицу. Небо было затуманенное, но эти высокие тучи уже не защищали землю от холода Пасечнику Глухенькому, скорее всего, придется заносить ульи на зимовку. Пчелы давно уже не делали облета, замерли улики, казались пустыми, хотя жизнь в них никогда не останавливалась. Пчелы даже зимой не впадают в спячку, только сбиваются в кучу, чтобы вместе сохранять тепло. Но в балке было спокойно и тихо. Подойдя к старой, раскидистой яблоне, которая густо натрусила под собой почерневшие листья, Маруся нашла в его лиственном настиле влажное краснобокое яблоко. Оно было спелым и невероятно вкусным. Она аж вздрогнула, когда сажень за пять увидела пасечника Глухенького. Увидела его со спины. Присев на корточки, он припал ухом к стенке улья. Маруся некоторое время не могла понять, что ее так потревожило. Обычное дело – пасечник слушает, как гудит-шевелится пчелиная семья. Мама родная, что же он, глухонемой, мог там услышать? Маруся тихо свистнула. Пасечник не оглянулся. Она стояла до тех пор, пока он не поднялся и не обернулся в ее сторону.
- Гудят пчелы? – спросила Маруся.
На его твердом лице лежала безразличная, ничего не выражающая усмешка. И неизвестно было, кому он улыбался – ей или сам себе.
III
В начале листопада ударили такие холода, что вода в речках потекла медленнее. Даже Тетерев, который гнал свои воды почти с горной радостью, притих в холодных, скалистых берегах, словно вот-вот должен был сковаться льдом. Его правый приток Билка, уменьшив движение воды, стал таким прозрачным, что на его песчаном дне было видно темнокожих окуней. Именно недалеко от Билки, в радомышльских лесах, ближе к селу Заболочье Марусины казаки устроили землянку: не столько для того, чтобы жить, говорил Санько Кулибаба, сколько для того, чтобы греться. Однако все не помещались, а кому припекло – может просушить обмотки. Всем не обязательно было знать, где эта землянка. Кому очень нужно, пускай сам себе выроет, говорил Санько Кулибаба. По-другому невозможно, так как каждый повстанческий отряд менялся по численности: одни приходили, другие уходили. Так было и у них: начиналась пахота земли – количество людей уменьшалось, заканчивали сеять – увеличивалось, в период уборки зерновых снова много отходило, а потом прибывало. Костяк держат такие, как Санько. Домой ему дорога
125
уже заказана. Если только ночью в какое-то время наведается, а так – лес его хата. Большевики все его стерегли. Они, сучьи дети, вернулись в Радомышль еще в сентябре. Какое-то время, пока собирались на Киев, в местечке даже стоял штаб комдива Федьки. Хороший Федько, хорошо зовется, сказала Саньку бабуля Киля: в одном слове и имя, и фамилия, и прозвище. Может, из-за этого комдива Федька москальни тогда наплыло сюда больше, чем комаров в Чертовом лесу. Но им все было мало – давай еще местных хлопцев мобилизовывать. Никто к ним сам не являлся, наезжали на села и рекрутировали силой. Однажды насобирали в Гонотопи, Меделево, Чайкивцах, Зеньках, может, с сотню парней (это тех, которых находили на печи), посадили, как баранов, на подводы и повезли скопом в Радомышль. На переднем возу ехал сам начальник уездной милиции Курчинога (также хорошо зовется, сказала бы Саньку бабуля Киля), возле него сидело еще три милиционера, причем один из них держал красный флаг, словно ехали они не на прием к комдиву, а на Федькину свадьбу. За ними в двух десятках подвод тряслись рекрутированные серые свиты, и на заднем возу сидело шестеро красноармейцев в продырявленных, тряпочных шлемах и в шинелях с красными поперечниками на груди. Подъезжая на возах, где балка как раз заворачивала к лесу, поперек дороги почему-то лежал толстый граб, словно его буреломом свалило. Еще когда ехали из Радомышля, то не было тут ни граба, ни ветра, а теперь на тебе – лежит. И не обойдешь его, и не переступишь, почесал за ухом начальник милиции Курчинога, и, соскочив с воза, приказал рекрутам, чтобы убрали с дороги дерево. Серые свиты, рады стараться, послазили с возов, кинулись убирать дерево, но тут их остановили.
- Не нужно! – послышалось из леса, - вы уже приехали.
Курчинога был не из пугливых, сразу подал команду к обороне, но Санько его первого тут-таки и положил поперек дороги, как того граба. Остальные милиционеры сразу же подняли руки, и красноармейцы, запутываясь в длинных шинелях, кинулись бежать в ту сторону, где был лес, и какая уж тут оборона, если не видно, кто и откуда стреляет. Их всех шестерых отправили в небесную канцелярию, а милиционеров, которые не чинили сопротивление, Маруся велела отпустить. Правда, сказала, чтобы им всыпали хороших плеток, только, хлопцы, я вас прошу, не сбрасывайте с них штаны, так отлупцуйте, сказала Маруся, так как, если по правде, она стеснялась наказаний на голое тело. Серые свиты живо подались на свое село, кое-кто хотел присоединиться к соколовцам, но Маруся посоветовала им немного помечтать на печи – сгоряча она никого не принимает, настоящий казак приходит к ней с конем и с вооружением, а не приезжает на возе под красным конвоем. После этого радомышльские большевики все, что делалось против них в уезде, списывали на “банду Маруси”, и даже тогда, когда комдив Федько повел свою дивизию на Киев, в Радомышле остался красный гарнизон. Те и другие большевистские части то одна, то другая наскоками наведывались в уезд, поэтому командир Осназа (отряд особого назначения) Мазолин, бывший моряк-балтиец, а теперь чекист, который возглавил особый конный отдел 12-ой армии, докладывал Реввоенсовету: “Борьба с бандитизмом ведется в уезде совершенно бессистемно. Части, присылаемые в Радомышль, часто меняются без всякой на то пользы. Причем замечено, что кто бы ни приезжал, ни одна из частей не оставляла хорошего впечатления, а наоборот, своими поступками и действиями дискредитировала власть. Например, выезжая в села якобы для
126
профилактики бандитизма, красноармейцы доводили селян до крайних возмущений, каждое село сетовало, что насильно отбирают вещи, такие как: белье, верхнюю одежду, полотно, сало, обувь и прочее. Бывали даже такие вопиющие случаи, когда политработник проводит воспитательную беседу с местными жителями, а в это время кто-нибудь из воинской части производит допрос селянина, и его публично бьют плеткой по лицу. Вот почему такое настроение у селян, вот почему они поддерживают бандитизм”.
Дальше Мазолин, докладывая Реввоенсовету 12-ой армии, писал, что “само имя Маруся стало пугалом для всего края”. И нет ничего удивительного в том, что бессистемные наскоки красных частей не могут ничего сделать “с этой зарвавшейся бабой”. Маруся очень грамотный и умелый враг, писал Мазолин, по образованию она учительница, банда имеет явное политическое выражение петлюровского направления. Маруся очень осторожная, принимает в отряд только тех людей, в которых уверена, окружила себя тремя подданными бандитами, через которых дает распоряжения другим членам тайно, поделенным на отдельные мелкие отряды. Среди сельских жителей (и не только) имеет ряд информаторов. Узнав о приближении военных частей, банда Маруси рассредоточивается по лесам, ярам, хуторам, словно испарившись, а через несколько дней появляется в другом месте, причем это может быть далеко за границами уезда. Поэтому предпринимаемые меры поймать атаманшу, подвел итог Мазолин, будут малоперспективными “без внедрения в ее ближайшее окружение нашего агента-осведомителя”. Пока не будет успешных разработок в этом направлении он, Мазолин, считает присутствие Осназа в Радомышльском уезде бесперспективным. Отъезжая из Радомышля, Мазолин то же сказал и главе ревкома Науменко, больше того, он сказал, что они тут “местные орлы” способны ловить лишь мух, на что товарищ Наум (так его называли свои), закинув назад голову, засмеялся раскатистым смехом. Когда он выпрямил голову, Мазолина перед ним уже не было, и Наум крикнул ему вдогонку:
- Да я ей этой ночью поставлю черный крест!
И на этой волне товарищ Наум в высоких хромовых сапогах, весь в блестящей коже, перевязанный ремнями-портупеями, в самом деле казался похожим на черного князя ночи. А смеялся он так оттого, что обвел вокруг пальца этого заносчивого особиста, не сказав ему, что Маруся уже в их руках. Для чего делить славу с Мазолиным, если Наум может сделать все сам? Он действительно выкладывался больше всех приезжавших выскочек, которые неуважительно называли этот край медвежьим закоулком из-за его бездорожья, леса и болот. Все они говорили одно и то же: “Хохла можно задавить только террором! Из-за одного бандита – жги все село”. Наум не понимал такой жестокости. Он был всею душою за советскую власть, но не понимал, почему те, кто борется за власть рабочих и крестьян, должны палить села и расстреливать невинных или несведущих людей. С людьми нужно работать. Он, Наум, даже ночевал в служебном кабинете, забыв, когда в последнее время спал на подушке. Подложив под голову толстую подшивку старых газет “Радомышлянин”, которые остались тут еще от земства, он так и перебивался, не жалуясь ни на какие невзгоды, медвежьи закоулки и бездорожье. На газетах ему спалось еще крепче, чем на подушке, так как перед сном Наум всегда вырывал из подшивки одну пожелтевшую страницу и перечитывал ее от начала до концы, ловя себя на мысли, что давние газеты временами интереснее, чем теперешние, а главное – в
127
них можно найти немало подсказок для нынешнего дня. Например, в 1913-ом году писали, что радомышльский уезд “полон медвежьих окраин, поэтому отличается от других уездов своим бездорожьем”. Люди здесь отрезаны от всего мира, писала газета, и существуют благодаря натуральному хозяйству. Медвежьи углы оживают только зимой, когда прокладываются санные дороги. “Поэтому люди здесь, как манны небесной, ждут снега”. На этом месте Наум задумывался над чудесной штукой: видишь как - когда природа замирала, в “медвежьем углу”, наоборот, просыпалась жизнь. Что-то тут было нормально, но вместе с тем Наум думал, что и он теперь выжидает снег, потому что тогда легче будет ловить бандитов. Немало воров морозы разгоняют по хатам, а те, что останутся в лесах, нигде не пройдут бесследно. В уездной газетной хронике его очень заинтересовал случай, который случился в марте 1914-го года в селе Замиры. Там у крестьянина Ивана Процента (русская фамилия как для медвежьих углов, подумал Наум) украли коня стоимостью 150 рублей. Расследовал это воровство такой себе пристав Свиценко, но видать, без особого успеха, что аж из Киева “привезли собаку-ищейку, которая своими поисками взбаламутила застоявшуюся тину сельской жизни”. Пес пошел напрямик огородами и через версту “вышел к дому подсудного “кацапа” Артема Баранова, и при толпе в 200 человек набросился на него”. Сперва Наума удивило то, что газета “Радомышлянин”, которая выходила на российском языке, назвала Артема Баранова “кацапом”. Понятно, так его называли селяне, если вор прибился в их медвежий угол с Московщины, но газета могла бы подобрать более культурное слово. Потом Артем подумал, что такая умная собачка не помешала бы и ему в поисковых работах, а еще лучше иметь несколько выученных собак, тогда с ними можно проводить облавы и в лесу, и по хуторам. Пускай бы, хе-хе, наученные псы “взбаламутили тину сельской жизни”. Но сильнее всего Наума поразило объявление “Радомышлянина” за 19-ое апреля 1913-го года о неимоверном событии, которое случилось в селе Горбулево, ныне бандитском гнезде Соколовских. Эта короткая заметка так удивила Наума, что он долго не мог уснуть. Никогда он не был безрассудным, в Бога не верил, а это объявление из трех строчек надолго “удивило” его душу. Оказывается, что в Горбулево шесть лет тому назад “за час до восхода солнца на северной стороне неба было видно знамение в виде зигзагов молнии. Их соединение представляло собой буквы, которые читались как “Победа”. Хорошо, думал Наум, допустим, что такое знамение на небе появилось, тут природа могла нарисовать что угодно, но чья “победа”? Горбулевцев? Тогда почему это слово молнии начертали по-московскому? Или оно читалось по-другому, а газета написала по-своему? И уже через несколько дней Наум понял, что он не случайно напал на это знамение: оно касалось и его. Сперва Науму было стыдно перед собой, что не мог выбросить из своих мыслей этой затеи, но он все-таки решил поговорить о горбулевском чуде с потиевским батюшкой Сафронием. Хотя Наум попов недолюбливал, однако часто гостил у отца Сафрония, так как у того даже в пост было печеное и вареники, была водка и наливка, а пекла и варила батюшке его служанка Палазя – не девушка, а наливное яблочко. Если по правде, то Наум из-за нее приходил к батюшке. Оказалось, что отец Сафроний слышал об этом знамении из первых уст, ему о нем рассказывал горбулевский батюшка Дмитро Говядовский, который собственными глазами видел написанное молниями слово “По-бе-да”. Что и кому оно предвещало, теперь трудно сказать, возможно, это слово следовало
128
читать “беда” или “обеда”, так как вскоре началась война, конца которой и до сих пор не видно. А если читать “победа”, размышлял дальше отец Сафроний, то пока что непонятно чья. Науму не нравилось, что батюшка до сих пор не знает, чья будет “победа” – в Радомышле почти уже год, как верх держит советская власть, а ему, видите ли, “не раскрыто”. Отец Сафроний, кстати о Горбулево, вспомнил еще и Соколовских. Говорил, трех братьев убили, а теперь имеете Марусю. Наум нахмурился. Чтобы загладить свои симпатии к Марусе, отец Сафроний попросил к столу служанку Палазю, а сам вышел из комнаты.
- Я видела Марусю, - вдруг сказала Палазя.
- Где?
- В Янивцах.
Наум помнил, что Палазя сама из Янивцев, но только теперь понял, что в этом селе держит парафию не кто иной, как родной брат атаманши Степан. Наум, разумеется, больше отца Сафрония знал о всех трех братьях Соколовских, а со средним Дмитрием он даже встречался, когда в конце января Наум, тогда еще боротьбист, возглавил в Радомышле советский политисполком, а Дмитрий Соколовский налетел на местечко, арестовал Наума и бросил в тюрьму. На помощь пришли красные отряды Алексеева, Одинцова, Табукашвили, и Наум снова занялся расширением соваппарата и укреплением советской власти, боролся с атаманом Дмитрием, потом с Василием Соколовским, а про четвертого братика услышал только впервые от Палази. Не подавая вида, что у него заныло под ложечкой, Наум налил девушке выпивки, подождал, когда ее щеки возьмутся еще более густым румянцем, потом спросил:
- Она приходила к брату? - Палазя кивнула. - Сама?
- А с кем же?
И тут Палазя, это золотое наливное яблочко, вдруг произнесла такое, что Науму сдавило дух. В эту субботу, что будет, отец Степан ждет ее в гости.
- Он что, исповедуется тебе? – с недоверием спросил Наум.
Палазя сказала, что никто перед нею не исповедуется, но по субботам, когда отец Сафроний отпускает ее на день домой, к ней иногда обращается янивский батюшка с просьбой приготовить ужин. Он не говорит для кого, но Палазя обо всем сама догадывается. Сладкие крендельки для мужиков не пекут.
- Она что, ночами приходит? – спросил Наум.
- А когда же? – удивилась ему Палазя.
Плохая это примета – хвалиться, предрекая кому-то черный крест или выдавать из себя черного князя, так как все окончилось тем, что субботней ночью в Янивцах поймали самого Наума. Трех красноармейцев, которые с ним были, где-то забрала нечистая сила, никто не знает, где они делись, а самого Наума привезли с завязанными глазами в какой-то халабуде и, когда ему сняли повязку, Наум подумал, что уже оказался на том свете. Хлопая глазами при свечке, он увидел перед собой того, кого уже не было среди живых.
- Узнаешь? - спросил безбожник.
- Узнаю, - сказал Наум. Перед ним сидел Дмитрий Соколовский (по-настоящему это был Степан Соколовский).
- Тебя же убили, - сказал Наум
129
- Так и что?
- Может, то был не ты.
- Может, и не я, - глухим потусторонним голосом засмеялся атаман.
От того смеха мурашки поползли по телу Наума.
- Когда-то я тебе уже дарил жизнь, - сказал Соколовский. – Помнишь?
- Было, - кивнул Наум.
- Не каешься?
Наум молчал. Во рту у него стоял металлический привкус, словно под языком он держал монету.
- Ты ж когда-то был почти своим.
- Я и теперь такой, - сказал Наум.
- Не ври.
- Я докажу. Я могу работать на вас.
- Не хочется умирать?
- Не хочется, - сказал Наум.
- Хочешь жить?
- Хочу.
- Знаешь, что придется делать?
- Знаю, - сказал Наум.
- Согласен?
- Да.
IV
Его отпустили. Чтоб не испывать судьбу, отец Степан навсегда ушел из Янивцев. Похожий как две кали воды с братом Дмитрием, он впервые допросил врага, но оставаться в лесу не захотел. Имея свои планы, пошел неизвестно куда. Того же дня, не попрощавшись, убежала от отца Сафрония служанка Палазя. Тоже не зная, в какую сторону идти, как выяснилось, она никогда в Янивцах не жила. Похоже было, что Наум так и не догадался, кто с ним разговаривал на самом деле, так как после в оперативных сообщениях радомышльского Чека и милиции вместо обычного “банда Маруси” снова писали “банда Соколовского”. Вскоре от товарища Наума прилетела к ним “первая ласточка” – записка, которую бросил в торбу “жебрака”, что ходил по Радомышлю с каторинкою (шарманкою). “Сов. Секретно. Тов. Скороходову. В связи с успехами Красной армии на деникинском и петлюровском фронтах рассматривается возможность о направлении на вверенный вам участок части интербригады, сформированной из мадьяр, китайцев и латышей, отличающихся особой твердостью и беспощадностью к контрреволюции, как то: отряды Фекета, Лю-Селяня, Ко Гуа. Приказываю в ближайшее время установить место базирования банды Маруси и других бандитских группировок, а также определить села, наиболее активно сочувствующие бандитизму. Наши дополнительные силы уже подошли к Фастову...”
- Идут освобождать Украину от украинцев, - сказала Маруся. - Они остановились в
130
разрушенном фольварке возле лесного урочища Довжик, где еще сохранились две
длинные колонны с почерневшей слежавшейся соломой. Лучшего места для отдыха не нужно искать.
На улице срывался колючий ветер и уже подвывал на чердаке голодным воем. Солома была теплой. Если в нее втиснуть руку, то казалось, что там до сих пор прячется лето. И возле фольварка еще поднималась такая свежая трава, что можно было пасти коней. В их болотистых медвежьих углах трава зеленела даже под снегом. На соломе расселись все свои – почти одни горбулевцы. С наступлением холодов их отряд начал таять, но Маруся не брала это близко к сердцу: зимой так должно быть. Меньше людей проще удержать – легче с продуктами, виднее, кто чем дышит. Расходились те, кто еще мог вернуться в теплую хату. Если когда-то “медвежьи углы” ожидали санных дорог, то теперь, наоборот, они боялись снега. Разговоры между казаками, чем дальше, тем чаще сводились к одному: сколько это все продержится и чем оно закончится? Они устали, так как большинство из них начали воевать еще в мировую, и с тех пор почти не имели перерыва. Мало было времени на отдых. Надежда то разгоралась, то гасла, а войне не видно было конца. На их землю пришли красные, белые, немцы, поляки, а теперь, смотри, поперли еще и желтые – китайцы, где-то взялись мадьяры, латыши, калмыки, башкиры, добавились какие-то крутые – интербригады, и не было им счета, и ни остановки. Вся мировая война в одночасье перекинулась в их край, где как будто бы все воюют против всех, а на самом деле идет битва за Украину.
Василий Матияш впервые заговорил про заграницу. Он сказал, что если прятать все концы в воду, то лучше всего податься за Днестр.
- Хочешь искупаться в Днестре? – спросила Маруся.
- Румыны наших не выдают, - сказал Матияш.
- Ты там был?
- Нет. Но я знаю, что лучше идти за Днестр, чем за Збруч.
- Я никого не держу, - сказала Маруся
- Чувствует мое сердце, что приближается наше поражение.
- Не слушай его.
- Кого?
- Сердца. Если оно заячье, то лучше его не слушать, - сказала Маруся. – Лучше его вырвать из груди.
- Это у меня заячье сердце?- обиделся Матияш.
- До тех пор было львиное, - сказала Маруся. – Не впускай в него неверие. Эта змея съедала еще не таких.
- Это такая судьба. От нее не убежишь.
- Будь сильнее ее.
- Сильнее кого?
- Ее. Судьбы, - сказала Маруся.
- Как?
- Верой. Пока человек верит в свою силу и победу, он сильнее судьбы. Разве ты не знал?
- А где ее взять, эту веру? – спросил Матияш.
131
- Когда...
- Да, где взять эту веру? - стал на сторону Матияша Иван Горобей.
- Тут слабоумных нет, но нам нужно знать, как быть дальше.
Ветер на улице усиливался. Он пел песню голодных волков.
- Нужно прорываться на соединение с нашей армией, - сказала Маруся.
- Снова цепляться за крыло галичан? – спросил Матияш.
- Почему галичан? Мы пристанем к армии Петлюры.
- Где она?
- Близко.
- Кто ее видел?
- У меня также есть сердце, - сказала Маруся, - и оно чувствует.
Она усмехнулась Матияшу.
- А кто это говорил, что Петлюра не берет восставшие отряды в армию?- спросил Матияш.
- Я говорила. Но положение изменилось. Думаю, что теперь в цене каждая единица. Если нет, будем здесь... – Маруся помолчала и добавила: - Будем тут держать Украину.
- А что с Несмияном? – жуя соломинку, спросил Иван Горобей.
- Не знаю, - сказала Маруся. – Жду вестей от Ангела. А пока нет зимы и еще можно собрать бригаду, необходимо идти в сторону Фастова.
- На красно-желтых? – спросил Матияш.
- Таких гостей лучше встречать в дороге, чем высматривать дома.
132
Глава четырнадцатая
I
Под давлением деникинцев Галицкая армия отходила на Запад. Вконец обескровленные боями – разутые, раздетые, без амуниции, медикаментов – стрельцы с наступлением холодов начали в массовом порядке болеть тифом. Пришел четвертый враг, сначала невидимый, а теперь намного страшнее всех вместе взятых – заканчивал войну черной косой. До конца октября безжалостный, смертоносный тиф положил в госпиталь большую часть галицкого войска – около десяти тысяч стрельцов и старшин. А уже в ноябре в войске осталось каких-то две тысячи боеспособных бойцов. Это была лихорадка – люди каждый день гибли сотнями. Госпиталя на скорую руку обустроенные в помещениях, непригодных для лечения, были переполнены больными, покинутыми на Божью волю в Немирове, Виннице, Жмеринке, Литыне, Боре... На всю Галицкую армию оказалось тридцать два врача, половина из них умерли еще в начале эпидемии. Перевозить больных железной дорогой не было возможности, так как железнодорожники не были подчинены военному командованию и тут существовал полный хаос. Гражданские служащие действовали по собственному усмотрению, часто дело доходило до открытого саботажа. Повсеместно не хватало вагонов и поездов, в то время как целые эшелоны беспорядочно скапливались на станциях, заграждая проезд другим эшелонам, создавая один за другим заторы. Кто был еще способен к пешему маршу – из последних сил месил болото на разбитых дорогах, передовые стрелецкие колонны похожи были на похоронные процессии. Люди падали с ног уставшие, те, кто еще ехали на возах в обозе, один за другим умирали как мухи.
Плохие вести доходили и от надднепровцев: Действующая армия также поредела, потерпела поражение возле Вапнярки, Тиманивки, Крижополя, потеряла Могилев и, поредевшая от тифа, откатилась на север, до Староконстантиновки и Любара. Это была катастрофа. В обозе умер Петро Гультайчук. Он отказался лечь в госпиталь, сказал, что смерть его там найдет быстрее, чем в дороге. Долго был в горячке, потом, придя в себя, снял с себя коричневые английские штиблеты и попросил Михася Працива, чтобы взял их себе. Михась, у которого от сапог на ногах осталось только голенище, рассердился:
- Но-но!
- Михасику, цыть! – сказал Петро Гультайчук. – Я слово сказать хочу, а ты меня перебиваешь. Обуй ботинки, ты должен дойти до Львова. А там недалеко... ты знаешь. Сними с меня крестик, потому что я уже не имею сил.
- Такое придумал.
- Цыть, Михасику, цыть. Передай этот крестик моей Зени. Пускай оденет малому. Скажешь... Ты знаешь, что сказать... Этот крестик видел все. Видел и слышал. Как я их тешил и как умирал.
Петро Гультайчук затих и больше глаз не открывал. Михась Працив хотел надеть на него, уже мертвого, английские штиблеты, но Станимир сказал, что не нужно. Волю
133
мертвого нужно выполнить. Михась обулся и прочитал над Петром молитву. Капеляна они уже не имели. Отец Михайло Якутов из Разводова отошел еще раньше. Когда несли Петра Гультайчука к яме, Михась Працив взял его за босые ноги, а Мирон под руки. И тут вдруг мертвый вырвался из Мироновых рук и полетел вверх, полетел просто к небу. Мирон вначале испугался такого чуда, но потом понял, что не Петро полетел вверх, а он, Мирон, падал вниз. Падал он непонятно каким образом, земля была под ногами, но Мирону казалось, что он летит и летит в бездну. Когда он начал терять сознание, то его последней мыслью было, что у него тиф. Некоторые хлопцы, кто сильнее, переносили тиф на ногах. Мирон уже несколько дней чувствовал слабость в теле, боль в голове и возле сердца, медленно поднималась температура, и даже тогда, когда увидел на животе красные пятна, еще не хотел верить. Но Бачинский также увидел, что у Мирона покраснели глаза и лицо.
- Все, братику, - сказал Василий. – Оставляем тебя в Калинивцах
- Ты что?.. Там же завтра будут москали.
- Если будут, то белые. А это уже не страшно. Что ты скажешь?
Дальше Бачинский городил такое, словно у него также началась лихорадка. Мирон был уверен, что кто-то из них двоих бредит – или он, или Василий. Но Бачинский говорил правду. Оказавшись на границе гибели, Начальная команда галицкой армии, чтобы сберечь целостность войска и жизнь людей, подписала с деникинцами перемирие, по которому их армия вошла в состав вооруженных сил Юга России.
- Нет! – крикнул Мирон, но не услышал своего голоса.
- По договору мы сохраняем автономию, - сказал Бачинский. – Остаются наши бригады, курени, коменданты.
- Нет!
- Мы не берем ни их погонов, ни их присяги.
- Нет! – из последних сил повторял Мирон, но Бачинский только по его губам видел это “нет”.
Мирон уже не мог произнести ни звука.
- Мы оставили за собой право не воевать с украинской Действующей амией, а только с большевиками, - сказал Бачинский. – Это был наш последний шанс на спасение.
Мирона нудило, к горлу подкатывала блевота. Потом его долго везли на повозке, и оттого что она тряслась, болело все тело. Наконец, кто-то спросил, сможет ли он встать на ноги. Нет. Они, его ноги, были набиты опилками, а колени размякли. Тому, кто спросил его фамилию, Мирон ответил, но и тут не услышал своего голоса. Он даже не видел того, кто спрашивал, только видел крест. Крест был красный, похожий на налитого кровью паука, который двигал лапами. Слышал, как его стригли, и там, где оголилась голова, било холодом в мозги. Потом холод повеял в груди, словно там, возле сердца, открылась дырка, и в нее свистел ветер. Кто-то (вероятно, доктор) водил пальцами по груди. Мирона взял страх, что доктор залезет пальцем ему в сердце. И снова – черная пропасть. Мирон не знал, когда он уснул – через день, неделю, месяц? Проснулся от того, что очень хотелось пить. Лежал он на соломе, а рядом двигались какие-то люди. Войсковой санитар дал ему воды, потом кусочек сахара, он, тот кусочек, так чудно захрустел во рту, что чуть не раскололась голова. Мирону показалось, что он уже не человек, а конь. Потом он увидел
134
себя не на соломе, а в гробу, застеленным сухой травой, и чудно было оттого, что он лежал в гробу, а видел себя со стороны. Видел, как подошли к гробу мама Мария и села над ним.
- Что, обдурил меня, сынок? – с упреком спросила мама. – Говорил, что вернулся домой, а сам умер. Оставил одну.
- Простите, - хотел сказать Мирон, но сказать не получилось, так как он был мертвый.
- Отец твой и брат погибли в бою, а ты скончался в гнилой соломе, как пес. Говорил, что приведешь мне невестку, а где она? Ото моя невестка? – мама показала глазами в темный угол, где сидела остриженная женщина с горящими сумасшедшими глазами.
- Что вы, господа, наделали? – вдруг закричала остриженная. – Он же любил меня за косу, а вы ее отняли!
Мирон присмотрелся к несчастной и понял, что он не мертвый. Эта женщина лежала на соломе между мужчинами давно, и все время голосила за своими отрезанными волосами. Мамы Марии тут не было, да и не могло быть. Он почувствовал себя живым, но так, словно голова его лежала отдельно от тела.
Даже услышал над собой голос: “Живой?”. На той голове, что лежала отдельно, ему разомкнули ножом зубы и влили в рот какую-то жидкость.
Он снова увидел, что вокруг него лежат на соломе люди. Это были наполовину мертвые, они еще подавали признаки жизни. Обстриженная женщина кричала, кто-то стоял, кто-то бредил, а кто-то блевал прямо в солому. Казалось, что все они лежали в соломенной яме, полной вони и нечистот. Дней не было. Были только ночи и желтые липкие вечера. Иногда Мирону казалось, что он уже выздоравливает. Однажды даже увидел своего ангела-хранителя. Сначала почувствовал себя на ногах – стоял на вершине Альп среди голых скал, которые начали оседать вниз со страшным гулом. Когда горы обвалились, он оказался на крохотном острове среди безграничной воды. Вода пахла кровью. Мирона охватил страх, но вскоре к нему подплыл ковчег, на веслах сидел белый ангел.
- Не бойся, выплывем, - сказал ангел, и Мирон узнал в нем деда Чепурного из хутора Вищенского.
- А где Маруся? – спросил Мирон.
- Скоро она к тебе придет, - сказал дед Чепурной.
II
На их дороге в направлении Фастова лежало местечко Брусилов, которое своим большевистским духом дразнило партизан.
В прошлый год в Брусилов большевики даже перенесли на несколько месяцев свой окружком из Радомышля. Тут у них был копировальный станок, на котором местные “пролетарии” Боря Теслор и Яков Гохват печатали прокламации, а расклеивала их Роза Гулько.
135
Теперь же Брусилов обзавелся такой охраной, что сходу не возьмешь. Только вчера зашли сюда красные части, пешие и конница, все не вместились в бывшую усадьбу помещика Алексея Синельникова. Кто они и сколько – никто не знает, видели только, что среди красноармейцев немало китайцев, еще, говорят, есть мадьяры и латыши. Зашли в местечко, пока что никого не трогают, так как их задобрили продуктами и водкой те же лавочники. Маруся провозгласила большой сбор в лесу, что подступал к местечку с двух сторон, устроив свой штаб там же, в Батцевом урочище, а в воскресенье с утра сама пошла в разведку. Одевшись как сельская девушка, в серенький пиджачок, платок опустила низко на глаза, положила в корзину десяток яиц, и пошла, словно на базар, той дорогой, что вела от села Озеряны к Брусилову. Утро было солнечное, но холодный, рассветный морозец даже прихватил лужи тонким льдом. Местечко жило своей привычной жизнью. Марусю давно удивляло, что, не обращая внимания ни на какое нашествие, люди также как обычно, ходили на базар, торговали, справляли свадьбы, крестили, гуральни гнали самогонку (сладкую брусиловскую наливку, о которой знали даже аж в Киеве), сапожники выделывали кожу, дегтярники воняли дегтем, трехэтажная мельница пахла мукой, и все то, что блестело против холодного солнца, черепичные крыши, которых в этом местечке было больше, чем где-то, так как брусиловский кирпичный завод выжигал самую лучшую в уезде черепицу и под ней даже краснели деревянные бруски, что стояли по левую строну от гуральни - все имело привычный вид.
Усадьба Синельникова стояла в старом липовом парке, как раз вдоль той дороги, что вела от Озерян к центру местечка. Большой кирпичный дом с пристройками был обнесен красной стеной, словно тут находилось не жилище, а крепость, и хотя хозяин давно убежал отсюда, именно теперь на входе в усадьбу возле железных ворот стояла военная охрана – два часовых в серых шинелях и фуражках с красными звездами. Очень смешной вид имел один из этих часовых, так как к его шинели совсем не шли лапти с обмотками. Это были даже не солдатские обмотки, а грубые суконные портянки, обвязанные на лодыжках кожаными ремешками. С виду это были добрые хлопцы, никакие там китайцы или мадьяры, обычные кацапчуки, которые даже обрадовались, когда наивная сельская дивчина подошла к ним ближе и завела разговор. Она спросила у “родненьких”, не доводилось ли им встречать такого себе Ивана Петрова, это ее брат,
красный командир, так как дома от Ивана давно ничего не слышали – он хоть живой? Нет,
они не знают командира Ивана Петрова, сказали красноармейцы, но могут расспросить про него в своей части, и если “милашка” придет в парк вечером, то они кое-что будут знать. Ох, чем же я вас отблагодарю, сказала наивная девушка, и уже хотела было угостить “родненьких” яйцами, но передумала и забеспокоилась, что вечером ее не выпустит из хаты мать, а вот среди ночи она могла бы незаметно убежать из дома, хотя и боится ходить ночами. Может, разве придет с подружкой. Это так понравилось “родненьким”, что они оба закивали головами – ночью будет еще лучше, тогда они уже освободятся от охраны, и когда все уснут, выйдут вон к той беседке, что стоит в углу парка. Договорившись о встрече ночью, Маруся пошла себе дальше, пошла на мост через речку Здвиж, которая тут всегда была тихой, а теперь от холода вода стала плыть медленнее.
Ярмарка была не такой многолюдной, как положено ей было быть в воскресенье.
136
Никто не кричал и не зазывал к товару, на торговище не было ни коней, ни другой скотины, ни птицы, торговцы переговаривались почти шепотом, но и из тех перешептываний Маруся узнала многое. Пока она обменяла в лавке Янкеля яйца на старенький платок, то все знала, сколько красные запросили фуража для коней, сколько заказали выпечь хлеба, сколько водки заказали на вечер для штаба. На этот раз “гости”, слава Богу, не расквартировались по хатам, разместились в усадьбе Синельникова, и немного их остановилось и в волостной милиции, что находилась по ту сторону Здвижа в просторном, хотя и деревянном здании отставного капитана Александра Пушкина, который слинял из местечка еще в начале войны. Даже немного смешно, но этот капитан Пушкин на самом деле приходился каким-то прародичем поэту Александру Пушкину, так как именно к его предку Николаю Васильевичу Пушкину, бывшему собственнику этого местечка, поэт приезжал в гости. И, говорят, как раз тут, в Брусилове, он проиграл в карты поручику Ершову свою сказку про конька-Горбунька, которую тот потом выдал за свою. Так вот, в этом доме Пушкина этим вечером намечалась веселая гульба, так как кроме восьми стопок водки, был заказан еще и граммофон. Маруся прошла возле того деревянного теремка, где была проиграна в карты сказка про конька-Горбунька да Иванушку-дурачка (здесь ей понравилась резная веранда, поднятая над землей: если под такую подложить охапку соломы, то весь теремок сгорит как свечка, а большой огонь ночью имеет свою особенную силу и притяжение). Потом она забрела в дальний угол Тихих Верб, за которыми в дубняке “случайно” набрела прямехонько на красную заставу. Однако здесь москалики оказались суровее тех, что охраняли Синельникову усадьбу – их командир, не вступая с Марусей в длинный разговор, сказал, чтобы она уматывала отсюда подобру-поздорову. Маруся его послушала, и до тех пор, пока добралась до Батиевого урочища, уже имела четкий план ночной операции. Она даже пожалела, что собрала много людей под Брусиловом, так как это место требовало нападения не сотен, а нескольких десятков казаков.
На ночь собрался ветер, небо снова затуманило, и погода партизанам часто бывает на руку. В лесном ярке, где разместился Марусин штаб на двух пеньках и бревне, было тихо. На короткий совет она попросила, помимо адъютанта Василия Матияша, только командира пулеметной сотни Матвея Яковенко и Ивана Горобея. Получив приказы, они
ушли готовиться к операции, а Маруся еще позвала Санько Кулибабу и дала ему зеленый
платок и юбку.
- А это для чего? – не понял Санько.
- Этой ночью будешь моей подружкой. Должен хорошо побриться и переодеться в девушку.
- Какая из меня девка?- удивляясь, обиделся Санько, предчувствуя интересную работу.
- Еще не знаю, - сказала Маруся. – Увидим.
В полночь они подошли к беседке, где их с нетерпением ждали два “кавалера”, и хорошая или плохая девка вышла из Санька Кулибабы, но прежде чем ее рассмотреть, “кавалер в лентах” получил удар ножом в горло. Его товарищ, что смотрел на Марусю, даже не успел обернуться на тихий ойк. Схватив москаля за голову, Санько и его полоснул по горлянке, хотя удобнее было всунуть лезвие между лопаток. Но оба москаля
137
были в таких грубых шинелях, что Санько побоялся испортить и решил их не колоть, а резать, как курей. Больше крови, зато меньше шума.
Из-за лип вынырнула еще одна фигура – это был Пилип Золотаренко. Они с Санько быстро переоделись в шинели и натянули фуражки со звездами. Хотя как ни было противно, но Санько еще пришлось переобуться в лапти. Они подошли к воротам, не вызывая подозрение, так как часовые думали, что возвращаются свои. На этот раз здесь находилось два китайца, которые даже не спросили “пропуск”. Их также прибрали без единого звука. Только Санько стало не по себе от того, что китаец, которому он всадил кинжал в шею, даже кончаясь, не сводил с Санька глаз. Как будто бы хотел запомнить его, чтобы отомстить на том свете. В парке от деревьев начали отделяться еще людские силуэты, и вскоре к воротам гуськом потянулось четверо казаков со связками ручных гранат (по три вместе) и хлопцы Матвея Яковенко с пулеметами “шаша” и “льюиса”. На улице было тихо, большие окна хоромов Синельникова высвечивались на фоне ночного неба. Эти окна специально сделаны такими большими, чтобы в них удобно было кидать бомбы. Казаки, касаясь стен, ожидали, пока все займут свои места вокруг здания. На улице сгущалась напряженная тишина, которая вот-вот могла разлететься на куски. Сигналом стал звон стекла, когда Семен Помпа со всего размаха запустил в окно первую связку гранат, и еще до того, как они разорвались, в остальные окна также полетели гранаты. Оглушительные взрывы один за другим качнули здание, вместе с ними зазвенело стекло, послышались крики раненых. Казаки, что метнули гранаты, в один миг отбежали в парк, освобождая пространство для пулеметчиков. Хлопцы Матвея Яковенко стрельнули из ручных скорострелов по окнам и дверям, хотя из тех дверей никто не выходил. Все, что осталось там живое, стонало и искало, в какой угол забиться.
Но и через плотную трескотню Маруся услышала, что точно такая же атака с гранатами и пулеметами закипела там, где стояла волостная милиция. Удовлетворенная усмешка прошла по ее лицу, когда взрывы гранат и стрельба долетели из-за Тихих Верб, где гнездилась вражеская застава. На этот раз Маруся решила не трогать ее до начала налета на усадьбу, чтобы не спугнуть основную силу врага – удачу обещало только одновременное нападение на все красные размещения. Ночная операция проводилась несколько минут. Они еще не успели отойти за местечко к коноводам, как половину
ночного неба залило красно-желтое зарево. Это горел деревянный терем милиции. Оттуда
еще неслись выстрелы – вероятно, те, кто уцелел в зданиях после гранат, выскакивали из огня и попадали под пули.
Великое пламя среди ночи имело свое специальное место. Саньку Кулибабе сделалось весело. Только теперь его отпустили нервы, и он пожалел, что все так быстро закончилось. Жаль, что они не вскочили в усадьбу, и не навели там порядок до конца. Можно было разжиться на новое оружие, одежду, а там, смотри, и на коней. Но громко Санько про свою жалобу даже не заикался: приказы Маруси не обсуждаются.
Возле коноводов уже стояли хлопцы, которые громили заставу. Им на трофеи повезло больше – Оверко Липай приволок на колесах “максима”, а кое у кого за плечами висело две винтовки. Подождали тех, что делали наскок на милицию. Они кого-то несли на руках. Ранило Семена Гарманчука. Кто-то все-таки выстрелил из окна, пуля попала Семену в живот. Он тяжко стонал и просил воды. Раненому в живот пить нельзя, но
138
сейчас об этом никто не думал. Каждому хотелось помочь Семену, только ни у кого не было баклажки, так как выбирались сюда ненадолго. Матвей Яковенко нацедил воды из охладителя пулемета в шапку и удовлетворил волю Семена.
Отошли в Богуево урочище, а до утра уже были в Плютовском лесу, за двенадцать верст от Фастова и за двадцать пять от Попильни, от которой недалеко стояла “Группа войск” Несмиянова, восставшая против коммуны. От отряда откололась пилиповецкая сотня, которой еще недавно командовал Матвей Мазур. Их казаки были недовольны, что Маруся не разрешила потрясти местечко, где возможно было обеспечить себя теплой одеждой (Брусилов славился своими кожухарями), обувью, сахаром и спиртом. Маруся в этом деле была непреклонна – если раньше она наказывала воров плеткой, то теперь осуждала до расстрела. Из Плютовского леса она выслала разведку в Фастов, а сама один на один подалась туда, куда звал ее навязчивый голос или плохое предчувствие, или отчаяние, или сама смерть. По дороге заскочила на казацкий хутор Млинок, где жил “свой человек” Гнот Свербиус, известный на все окрестные села мельник (его мельница стояла в лесу над рекою Кирша), и сделала там обмен, который сама себе не могла объяснить. Тот же голос подсказывал ей пересесть с белого араба Нарцисса на серого коня, того, что когда-то она занимала у атамана Дьякова, а потом, вернувшись из Гощи, оставила его на хуторе у Свербиуса, чтобы присматривал за ним до нужного времени. Жаль было разлучаться с Нарциссом, однако он очень уже бросался в глаза – как для нынешнего времени и в неизвестной дороге ей больше подходил серый конь, значительно меньше Нарцисса, неизвестной породы, с маленькой головой и короткими ушами, но быстрый и надежный, уже испытанный в горячем деле, когда вынес ее из неприятности вместе с Мироном. Марусе казалось, что серый ее не только узнал, а и обрадовался, когда она его оседлала – затопал ногами, мотнул хвостом, тряхнул гривой, ушами и на первое “но!” пошел таким ровным карьером, словно земля стелилась ему шелком.
139
Глава пятнадцатая
I
Появление Маруси в Зазулинцах, где отстал от марша 2-ой курень 8-ой Самбирской бригады, не удивило Василия Бачинского. Он уже потерял способность чему- либо удивляться, на его измученном лице лежала печать неизгладимой тяжести и растерянности. Разговаривали они в наполовину разваленной клуне, которая больше напоминала хлев для пристанища беженца-погорельца, чем на военный штаб. Василий сидел на снопе кукурузы и, подергивая свой правый ус, повторял одно и то же:
- Мы не взяли ни их погонов, ни хоругвь, ни присяги... так вышло...
- Могли бы и взять, - сказала Маруся. – Какая теперь разница?
- А как могло быть по другому, если... окружить, но не стрелять?.. Мы требовали от Начальной команды дать нам ясные распоряжения. А в ответ слышал одно: держитесь, никаких стычек, проводятся переговоры...
Маруся молчала.
- Вы были тогда в Киеве? – спросил Бачинский, словно забыл, что повстанцам запрещалось входить в город.
Но Маруся сказала:
- Была.
- Где?
- На Бессарабке. И возле Лукьяновской тюрьмы.
- Ну что вы знаете... – почему-то обрадовался Станимир. – Нам приказано окружить самые важные объекты, но не стрелять. Только переговариваться. А как переговариваться с москалем, который умеет только врать?
- Что теперь говорить? Я хотела спросить...
- Его здесь нет. Он в госпитале. – Станимир еще, как только увидел Марусю, догадался, что она ищет поручика Горняка. Он не мог ей сказать ничего утешительного, кроме того, что назвать место расположения госпиталя. Маруся уже порывалась уйти, но Осип придержал ее за локоть и снова завел свое:
- Мы полностью автономные. Не взяли ни их погонов, ни хоругвь, ни присяги, только и того, что теперь не воюем с ними. По правде, это не военный союз с деникинцами, а так себе, временное перемирие. Так называемый тактический маневр. Но как воевать? Армию доканчивает тиф.
Марусе показалось, что Станимир потерял ум. Он вдруг сказал:
- Я бы вам не советовал туда идти.
- Куда?
- В больницу.
- Почему?
- Так как вы его не узнаете. Я был там. На это невозможно смотреть. Да и небезопасно. Вам это уже ни к чему.
140
Бачинский подумал, что она его сейчас ударит. Он был не против. Ему даже хотелось, чтобы она его ударила.
- Прощайте, пане сотнику.
Она вышла на улицу, где ее ждал серый. Бачинский вышел вслед за ней и, торопливо копаясь в кармане, почти закричал:
- А вот это вы видели?
Он держал за бирку ключ, который качался в его руке, как маятник. Это был обыкновенный замковый ключ с плоскими зубцами на конце металлического стержня.
- Не понимаю, - сказала Маруся.
- Это ключ от киевской Думы. Мы взяли ее, Киев был наш.
Маруся вскочила на серого и погнала в сторону поля. Бачинский смотрел ей вслед до тех пор, пока Маруся не скрылась за холмами. Нервы его расслабились. Бачинский заплакал.
II
Госпиталь находился в помещении, которое было менее всего пригодно для лечения тифозников. Это была длинная камера для хранения зерна давно брошенного фольварка, приспособленная под лазарет. Тут же находилась и вся “канцелярия” госпиталя, отгороженная дощатой стеной, где Маруся нашла одного единственного врача. Одетый в войсковой плащ поверх халата, он спал за столом, положив голову на скрещенные руки. Открыв еще одну дверь, она зашла в помещение, где лежали больные. Это была обитель самой смерти. В темной большой камере Маруся не увидела ни единой кровати. Наполовину живое подобие людей лежало покотом на полу, застеленного соломой, которая от сырости и нечистот стала уже перегноем. Нечем было дышать: смешанный смрад блевотины, пота и мочи завис тут тучей испарений. Стрельцы лежали в мундирах, прикрытые плащами, шинелям, покрывалами, которые не спасали от холода, так как лазарет обогревала одна железная печка с выведенным через разбитое окно дымоходом. И еще в одном окне разбитое стекло было закрыто тоже соломою. Стоны, бред, крики и шепот измученных людей сливался в матерные проклятия от боли и отчаяния. В сумерках вся боль была на одно лицо, но среди них Маруся не видела того, которого она распознала бы и в темноте. Ее также никто не узнавал, не звал, только какая-то обстриженная женщина, опершись на локте и поблескивая бесноватыми глазами, закричала:
- Что вы, господа, наделали? Он же любил меня за косу, а вы ее отрезали!
Маруся только теперь догадалась, что среди больных бойцов оказалась тифозная женщина. Рядом с ней лежал на соломе желтый, как глина, стрелец, и ему было безразлично, где он и возле кого. Плохое предчувствие, которое давно беспокоило Марусю, пробрало ее морозом.
- Мирон! – тихо позвала она, глядя по всем сторонам, затаив дыхание. – Мирон!
Ее голос точно также слился с отчаянием неутомимой боли и разлуки. Никем не услышанный, без надежды на ответ. Мирона тут не было.
141
- Он любил меня за косу... – скулила обстриженная. – Он пошел...
- Кто? Кто пошел? – переспросила у нее Маруся. – Мирон?
- Не знаю, как его зовут. Возле меня лежал, а потом пошел.
- Куда?
- Домой, - сказала обстриженная. – Туда, куда Бог послал.
Маруся вернулась в переднюю, где за столом в том же самом положении спал врач, опустив голову на скрещенные руки. Она напрасно стукнула дверьми, чтобы его разбудить, он даже не шевельнулся. На миг Марусе показалось, что этот человек мертвый. Она от страха потрогала его за плечо.
- Пане доктор...
Он медленно поднял голову и посмотрел на нее пустыми глазами. Они, его запавшие глаза, были красными не от бессонницы. Бедолага и сам был больной. Он попробовал подняться, но не смог.
- Что вы хотели? – спросил он.
- Вы... врач?
- Врач Охримович.
- Я ищу поручика Горняка, - сказала Маруся. – Его положили в ваш госпиталь.
- Горняка? Это какого? – врач Охримович поморщил лоб, пытаясь что-то вспомнить. – Его уже нет.
- Куда его перевели?
- Он умер.
- Нет, - сказала Маруся. – Я спрашивала вас про Мирона Горняка. Еще несколько дней тому он был у вас.
- Так был. А вчера его похоронили.
- Не может быть.
- Но почему же не может быть. Как раз это теперь чаще всего и бывает.
В его голосе не было и капли сомнения. Он подвинул к себе смятую тетрадь, которая лежала на столе, перебрал ее до последней списанной страницы и повел желтым пальцем по отдельному ряду.
- Поручик Горняк Мирон, 2-ой курень, 8-ая Самбирская бригада, - прочитал он громко. – А вы кто ему будете?
- Где его похоронили?
- Там, где всех. У него нет своей могилы. Я бы вам не советовал туда ходить, - сказал он так же, как говорил ей Бачинский.
Только Василий говорил еще про живого, а врач Охримович про мертвого.
- Он... у него здесь не осталось ничего? Может, что-то из вещей...
- Нет. Мы таких не сохраняем. Пойдемте.
- Что?
- Эпидемия. Во время эпидемии вещи больных положено уничтожать.
- Так... известно...
- А мне так кажется, что вы девушка. Я не ошибся?
- Это сейчас не имеет значения.
- Имеет. Хоть одному будет кому оплакать.
142
- Я не умею плакать, - сказала она.
Маруся уже была возле дверей, когда врач Охримович вдруг ее остановил.
- Стойте!
Она обернулась. Неужели он скажет, что могла случиться ошибка? Но нет. Он сказал:
- Я хочу вам сделать хорошее дело. Вы такая юная... Давайте я сделаю вам прививку.
- Какую прививку?
- От тифа. Как раз имею сыворотку, вакцину с убитых микробов. Я приготовил ее сам из крови бойца, который умер.
Он тяжело поднялся и, качаясь, подошел к полке, на которой стояла бутылка с бурой жидкостью.
- Нет, благодарю, - сказала Маруся. Она вышла на улицу, а потом снова возвратилась. – Я согласна.
Врач Охримович сделал ей инъекцию. Он хотел ей сказать, что это и есть все богатство, которое осталось от мертвого бойца. Но это значило больше, чем памятная вещь, которая могла от него остаться. Это то, что отвернет смертельную угрозу и навсегда останется в ее крови. Даже перейдет по наследству. Но он это не говорил вслух. Он был уверен, что она это знает и поэтому возвратилась к нему.
III
Когда беда идет за бедою, да еще и не сама, а со своими провожатыми, тогда наступает катастрофа, в какой не остается места для счастливого случая. Маруся разминулась с Мироном на расстоянии двух бросков палкой, когда она проезжала полем мимо Самгородка, ехала на сером до Попильни, а он, Мирон, как бы заново учился ходить, шел через то местечко на Зозулинцы.
Позапрошлой ночью, поймав момент, когда никого не было в передней, Мирон незаметно выбрался из обители смерти, чтобы совершить давнее намерение – чтобы добраться до своего куреня, или отдать Богу душу под голым небом. Он знал, что его не будут искать. Врач Охримович, осматривая больных и не увидев среди них еще одного безнадежного пациента, подумал, что очередной санитар вынес его туда, куда каждый день выносят мертвых.
IV
Ей было холодно. Так, словно она осталась одна одинешенька среди мира, и неведомо куда, неизвестно для чего гнала коня навстречу осеннему ветру. Она вся сжалась от этого колючего ветра, который пробивал до костей, и ее бедное сердце также сжалось в маковое зерно, не способное вместить боль. Она хотела заплакать, зарыдать на
143
весь этот пустой мир, но не могла, ее глаза были сухими, и даже острый встречный ветер
не мог нагнать на них слезы. В Папильно в лавке Нухима Кравченко она купила за гривни мерку овса для коня, попросила сладкого горячего чая, и пока серый, остывая, хрумкал овес, Маруся грела руки о чашку с горячим кипятком. Заметив, что “хлопчина” стучит зубами, сердобольный Кравченко накинул ему на плечи поверх чумарки тепленький кожушок, а потом сказал, что отдаст его совсем даром, всего за десять стогривенных купюр, так он, Кравченко, уважает петлюровские деньги, как и самого Петлюру, который обосновал в своем правительстве Министерство еврейских дел и еще тогда, когда он предложил в Украинской Народной Республике собственный карбованец, узаконил на нем свою запись рядом с украинским, польским и российским языком. Больше нигде в мире не было на ассигнациях подписей еврейским языком, говорил Кравченко, так как знал, что говорить. Хотя на Марусе во время этого путешествия была шапка без казацкого шлыка, он давно заметил на ее сапогах вмятины от шпор, а когда она заплатила за овес и чай гривнами, хитрый Кравченко догадался, с кем имеет дело. Так за десять стогривенных купюр он продал “парубкови” кожушок для девушки со смушевыми обшивками по краям – коротенький (выше колена), мышиного цвета, в аккурат для всадника.
За Попильною на ее дороге лежало урочище Пасички, которого она не могла объехать. Вечерело, но еще было светло, когда Маруся въехала в балочку, где прятался зимовник пасечника Глухенького. Она остановилась в акациях, оттуда хорошо просматривалось хозяйство немого, и сразу почувствовала, что тут что-то не то. В старом яблоневом саду не было ульев, Глухенький, вероятно, занес их перед холодами в зимовник. Насторожили настежь открытые двери в хату, крытую соломой. Маруся немного подождала, не выйдет ли кто оттуда, но похоже было, что там никого нет. Уведя серого подальше к акациям, она привязала его к дереву, достала из сидельной кобуры наган и тихим шагом подошла к зимовнику с тыльной стороны. Перескочив забор и прячась за пристройками, Маруся подкралась к задней глухой стене хаты, потом подступила к углу, прислушиваясь – ни одного подозрительного звука. Это еще больше ее насторожило. Хотя была мертвая тишина, Маруся не могла согласиться с тем, что тут никого нет. Открытые двери означали близкое присутствие или живого человека, или же покойника. Маруся переступила через порог. Ого! В хате было все вверх дном. Перекинут стол, лавка, под ногами валялись растоптанные пчелиные рамки, кружки воска, битая посуда и... несколько пустых гильз. Все говорило о следах горячей стычки. Но человеческого духа тут не было. К запаху вощины и меда добавлялась гарь порохового выстрела. Она вышла на улицу – сарай и еще какое-то большое строение, стены которого внешне обложены стеблями сухой кукурузы. Похоже, что именно в них хозяин прятал на зиму ульи. Но почему двери прислонены колышком? Маруся отложила его в сторону, зашла внутрь, и в косом клиновидном свете, который падал через проем двери, увидела на полу связанного мужчину. Здесь же почти все пространство занимали ульи, расставленные один на другом, и между ними ничком лежал не кто иной, как сам пасечник Глухенький. Его руки и ноги были связаны кожаными ремнями, и он был живой. Когда Маруся его развязала, Глухенький какое-то время так и лежал вверх спиной, словно не верил в свое спасение, потом перевернулся вверх животом, стал на корточки и постепенно встал на ноги. Они у него еще как онемели, так, что Глухенький опустился на
144
колени, потирая кисти выше запястья, на которых остались сине-яркие следы. Он снизу
вверх посмотрел на Марусю с уже знакомой ей безразличной улыбкой и кивнул – или поблагодарил, или поздоровался. Маруся не имела времени разгадывать его жест, поэтому сказала прямо:
- Расскажите, что тут произошло.
Глухенький заметно напрягся, но молчал.
- Пожалуйста, - попросила она. – Я тороплюсь.
- Тебе кто-то сказал или сама догадалась?
- У вас живые уши? - удивилась Маруся. – Рассказывайте.
- Беда, - сказал он.
- Беда, еще и большая.
Глухенький с подозрением помял себе ухо. Было видно, что он пережил необычайный страх, от которого отойдет нескоро. Сегодня ночью, сказал Глухенький, атаманы снова должны были встретиться с Несмияновым. И на этот раз он приехал намного раньше наших, и с ним было с два десятка красных. Это их столько зашло ко мне, сказал Глухенький, а в лесочке могло быть и больше. Он сразу догадался, что пахнет смоленым. Москали расползлись по двору, заглядывая во все двери и углы, поэтому он, Глухенький, понял, что они готовят засаду. Но предупредить атаманов не мог, так как с него не сводили глаз. Наших приехало четверо: Ангел, Бугай, Шум и Пята – свояк Глухенького. Их адъютанты остались возле акаций, а сами атаманы, ничего не подозревая, пошли в хату.
- Наши люди очень доверчивые, - сказал Глухенький, и помимо своей воли снова помял себя за ухо. – Ну, и попались...
- Их взяли живыми? – спросила Маруся.
- Пяту, свояка моего, Несмиян сам застрелил. А троих – Ангела, Бугая и Шума – повязали. Кое-кто успел выхватить револьвер, да куда там?.. Москалей только в хате было с десяток, а вокруг хаты сбежалось больше. Ну, никто же такого не ожидал. Адъютанты, что стояли в акациях, кинулись на выручку, но их постреляли. - Глухенький опустил голову, шморгнул носом. – Меня опосля связали. Не убили, может, потому, что думали, немой я. И бросили здесь связанным, чтобы сдох, или как?
- Не знаю, - сказала Маруся. – Об этом узнаем позже.
Что-то в этом рассказе не сходилось. Свидетеля, даже немого, они должны были также убрать сразу. А если этого не сделали, то Глухенький что-то не договаривает, или они снова сюда придут. И то - еще сегодня! Нужно отсюда быстрее исчезать.
- Мне пора, - сказала Маруся. – И вам я бы не советовала тут оставаться.
- А пчелы? – спросил Глухенький.
- Они вас подождут.
- Москали могут сжечь зимник и пчел
- А вас – нет? – спросила Маруся.
- Может, пронесет, - сказал Глухенький, касаясь своего уха. – Если сразу не порешили, то гляди, пронесет.
- Ну, смотрите, - сказала на прощание Маруся. – Если пронесет, то я непременно к вам наведаюсь.
145
- Известно, - сказал он, не заметив ее напряжения.
Маруся вышла на улицу и напрямик пошла к акациям. Господи, что же так холодно? Тут в низине совсем нет ветра. На ней теплый кожушок, а холод пробирает навылет, гуляет в теле, в груди, словно там появилась дыра, создалась пустота, в которой нет места ни жалости, ни скорби, ни боли, и даже беда, что случилась с Пятой, Ангелом, Бугаем и Шумом, не достает до сердца, словно его нет, словно его вытащили из груди и похоронили там, где нет ничьих могил. Выехав из балки, Маруся пустила серого в галоп. Навстречу ей снова подул острый ветер, но там, где была пустота, где была холодная дыра, вдруг сделалось тепло. По левую руку выплывала вечерняя заря, показывая ей дорогу.
V
Несмиян (настоящая фамилия Несмиянов) передал атаманов особому отделу 58-ой дивизии Красной армии, где их и расстреляли. Сначала Несмиянов, вероятно, не имел таких намерений, но победы красных в конце 1919-го года заставили командира “Группы войск, восставших против коммуны” подумать про собственную шкуру. Продажей атаманов Несмиянов надеялся, что большевики за такую услугу простят ему измену. На самом деле они его ликвидировали позже, а тем временем Несмиянов со своей стаей “северных братьев” занялся грабежами и террором украинских крестьян.
Глава шестнадцатая
I
В Плютовский лес Маруся въехала перед рассветом. В старом бору еще стояла такая темнота, что за ней она не могла рассмотреть конское ухо. Наоборот, серый уверенно ступал между деревьями, не вилял, не фыркал, только сухие ветки потрескивали под его копытами. Вскоре конь остановился, и Маруся почувствовала, как он тревожно втягивает ноздрями сырой холодный воздух. Где-то уже недалеко были люди, или, может, серый почуял конский дух. Слегка дернув поводом, Маруся пустила его дальше в глубину леса и вскоре увидела сполохи зарева, которые перебегали по медным столбам сосен, поднимаясь до зеленых крон. Она спешилась и, зацепив повод за сук, подошла ближе. Возле огня сидело два часовых казака, а остальные спали на кучах сосновых веток. Чтобы меньше допекал холод, они положились кучками по три-четыре души, прижавшись один к другому. Овва! Это были пилиповецкие гайдамаки, которые после наскока на Брусилов обиделись, отошли от отряда, а теперь повернули назад, словно ничего не случилось. Как будто бы они – не они. В головах этих хлопцев всегда было много ветра. Зато они редко оглядывались на риск и страх. Еще вчера Маруся не простила бы им такого поведения, но сейчас она не имела обиды на пилиповчан. Сейчас у нее не было сердца. Возле костра Маруся узнала семинариста Кирика и Устима Гаркового, которого все называли Уважаемый – не потому, что Устим был пожилого возраста, а, как сам он говорил, месил уже третью войну, а потому, что он обращался ко всем, даже к своему коню и самому лютому своему врагу только этим словом – уважаемый. А теперь Уважаемый, выгребая печеную картошку из огня, про себя размышлял - или простит их Маруся, или прогонит, окаянных, туда, откуда они пришли. Кирик, пригревшись возле огня, уже клевал носом и был уверен, что это ему снится, когда из темноты вынырнула фигура Маруси и стала перед ними в освещенном огнем круге. Увидев, вскочил на ноги Уважаемый, за ним Кирик и себе встал смирно в полный рост, снимая шапку – сон это или не сон, а честь нужно знать. Уважаемый с Кириком виновато опустили головы на грудь.
- Мы вернулись, - сказал Уважаемый рассыпчатым голосом, словно во рту он держал горячую картошку.
Его наклоненная, подстриженная “под горшок” голова исполнена самого покаяния.
- Вернулись, - повторил за нм Кирик, сжавшись так, словно по его спине вот-вот походит плетка.
Так он стоял некоторое время невменяемый, а когда поднял глаза, то не увидел Марусю, никого не увидел, кроме Уважаемого с покаянно наклоненной головой. Потом они посмотрели один другому в глаза, долго смотрели, боясь спросить, или ты, Уважаемый (или ты, Кирик), видел кого-нибудь перед собою, но, так и не спросив, вместе опустились каждый на свой пенек, и поскольку костер потух, то в потемках они и сами напоминали два выкорчеванных пня.
Главный лагерь соколовцев стоял немного далее возле покинутой лесопилки, где
147
еще уцелел обшарпанный деревянный барак, сохранилась сторожка и навес для сушки досок – широко накрытое строение и неплохое стойло для коней. За двое суток казаки это место успели обжить – в барак наносили соломы с ближней скирды, насобирали пней и колод для сидения, на огонь поставили казаны и варили овсяную кашу – за главный продукт имели то, что и кони: овес и ячмень. Сейчас они, кроме часовых, спали в бараке крепким сном, который приходит только перед рассветом. Не спал Василий Матияш – сидел на кругляке под сторожкою, курил, пряча сигарету в рукав, хотя прятаться не было от кого. Слушая треск притихшего леса, и всматриваясь во влажную темноту, он ждал, когда из нее, из темноты, выплывет белый конь, но увидел серого. Стиснул, сдавил кончиками пальцев сигарету, и даже тогда, когда узнал всадника, тревога не отпустила.
- Что случилось? – спросил Матияш, когда Маруся соскочила с коня.
- Ничего, - сказала она.
- А где же... Нарцисс?..
- С ним все хорошо.
- А это...
- Это серый, - сказала она и подумала, что лучшего имени этому коню не придумать: пускай будет Серый.
- Что тут у нас?
- У нас?.. Тихо. Вернулись.
- Видела.
Еще? Из ее голоса Василий слышал, что “добре не все”, но допрашивать не стоит. Он рассказал, что хлопцы, которые ходили в разведку в Фастов, встретили врага раньше, чем рассчитывали. До двух сотен красных конников стали на ночь в село Веприк и уже этим утром собирались двинуться на поиски “банды Маруси”. Когда их известили о нападение на Брусилов, то вся конница поехала на село Дидивщина. Представилась хорошая возможность приветствовать москалей на марше под лесом. Ведь нас вместе с пилиповчанами тут наберется полторы сотни сабель. “На ходу” семь легких пулеметов – четыре “льюиса” и три “шаша”. Магазинов с патронами, как и гранат, осталось немного, но пощекотать красную “экспедицию” хватит.
- Встретим, - сказала Маруся. – Станем на краю леса. А пилиповчане пускай уже сейчас выходят вперед и ищут места, чтобы ударить москалей с тыла.
Отдав Василию поводья, она попросила напоить коня теплою водою. У нее еще оставалось немного времени, чтобы отдохнуть. Кровати в сторожке не было, но Василий постелил ей мягкую постель из сосновых веток, накрыв сверху широкой накидкой.
Маруся провалилась в черную бездну, которая пахла ладаном. Ее не посещал ни один сон, не касалось ни одно видение, только этот сосновый дух ладана наполнял каждую клетку ее существа. Она догадалась, что это пахнет смола. Раскрыла глаза. Спала или нет? Где-то рядом фыркали кони и слышались утренние хриплые голоса казаков.
II
Они стали ровно вдоль леса. Наблюдателей Маруся не высылала, чтобы случайно
148
не выявить себя перед всадниками. Достаточно того, что в ту сторону поехали пилиповчане и где-то притаились, если они срочно понадобятся, то их не найдет и связной. Пускай они сами знают, когда вступить в схватку с врагом.
Оставив коней при коноводах, казаки занимали “места” в засаде – присматривались, где корень, где самый густой подлесок, где более широкий пень, чтобы лечь удобнее. Пулеметчики Матвея Яковенко, как всегда, стали на флангах. Все проверяли вооружение, щупали набои. Саньку Кулибабе это ожидание разрывало сердце и изматывало его терпение. Быстрее б все начиналось.
Перед лавою казаков лежало ровное поле, вдоль перерезанное дорогой, что вела от Веприка на Дедивщину. Ее дальний конец терялся под горизонтом, отмеченный темной полосой леса, и все казаки поглядывали в ту сторону. Немного ближе к ним по правую руку белел березняк, а левее блестело колено речки Кирши. Чего вдруг Кирша? – думал себе Санько Кулибаба, чтобы меньше думать о том, что не давало покоя. Вот в Горбулево такая речка называется Свинолужка, и там все понимали: возле воды лужок, а на нем пасутся свиньи. А Кирша? По какому это она? Нужно спросить у Льюдзю Липки, может, это по-ихнему, так как ляхи тут когда-то устанавливали свои порядки, и старые люди говорят, что именно в лесах возле Веприк атаман Швачка созвал своих гайдамаков. Санько перевел взгляд от речки на Льюдзю, который лежал справа от него за дубовым деревом, и всматривался вдаль, сколько мог видеть.
- Льюдзю, слышишь? – позвал его Санько, пока еще можно было оглядываться.
- Что тебе? – холодно спросил Льюдзю.
Он всегда говорил холодно, глаза у него тоже были холодные и острые как топор.
- Ты не знаешь, что такое Кирша?
- Знаю.
- А что?
- Речка.
- Так я вижу, что речка.
- Так чего ты от меня хочешь? – еще холоднее спросил Льюдзю и, глядя на его ледяное лицо, Санько был уверен, что у Липки Льюдзю под кожею течет голубая кровь.
И вдруг это острое, как топор, лицо заострилось еще сильнее – Льюдзю все-таки что-то увидел за бугром, но на открытом поле, сколько видели глаза, Санько не видел ни одного движения. Но нет - в дальнем конце дороги, что терялась под горизонтом, появилась черная точка. Она медленно увеличивалась, как горбик, где роется крот. Горбик рос, двигался и вскоре вырос в темную кучку, словно там высыпали кучу навоза, а из той кучи медленно вырисовывалась голова кавалерийской колонны, которая двигалась полевой дорогой в их сторону. Санько посмотрел влево, где примостился Оверко Липай. Лицо его было таким спокойным, что Саньку захотелось спросить еще и Оверко Липая, что такое Кирша, но разговаривать уже было некогда. К тому же Липай заикался, и пока он ответит, пока выговорит одно слово “к-к-к-ки-р-р-р-ша”, враг будет под носом.
Санек страха не почувствовал, он уже привык к таким засадам, но непривычно было смотреть, как из маленькой точки вырисовывается конная веревка, в которой не видно хвоста. Кто, вероятно, знает, что такое Кирша - так это их атаманша, - думал Санько, пускай все закончится, тогда он спросит у нее, откуда взялось такое чудное
149
название этой речки. Он покосил глазами туда, где залегла Маруся – она разглядывала в бинокль колонну, которая, казалось, качается на одном месте, хотя на самом деле передвигалась размеренной ходьбой. Марусе эти конники не нравились. Ехали они в суровом порядке, крепко держались в седлах, были хорошо вооружены. В передней тройке колонны один был одет в кожу, подшитую мехом, другой в черный моряцкий бушлат и бескозырку, а третий в бледно-зеленый ватник. Марусю всегда удивляло, что большевистское войско не имело своего уставного обмундирования. Оно носило то, что перепало ему от царской армии или ее пленных, но и этого “подарка” коммуне не хватало, особенно обуви, потому орды кацапчуков перли на Украину в лаптях, обмотках, калошах, чунях, они готовы были бежать сюда босиком, чтобы освободить братьев-малороссов от злых петлюровцев, которые не мыслили себе “самостоятельной жизни”.
Эта конница также была одета каждый по-своему, но не лишь бы как: все в сапогах, галифе, кто в шапке, кто в фуражке, кто в бескозырке, все на добрых сытых конях. Видно было, что это часть особого назначения, а не какая-то там пьяная матросня, которую случайно вытолкали из вагонов на Фастовской железнодорожной станции для подавления контрреволюции. Уже был виден хвост колонны, которая растянулась сажень на сто, но отсюда, от леса, она казалась густой, глухой топот копыт малороссов слышался уже настолько, что и без бинокля было видно, как трое передних всадников переговариваются между собой. Тот, что был в черном бушлате, даже показал рукой в эту сторону и сказал что-то смешное, так как оба его товарища засмеялись, а тот, в коже, вдруг поднял руку и остановил колонну. Он также поднес к глазам бинокль, который болтался у него на груди, навел его прямо на Санька, отчего Кулибаба перестал дышать, вжался в землю, и ему казалось, что не он спрятался за дубом, а наоборот, дуб спрятался за ним.
В следующее мгновение черный бушлат быстро снял из-за спины винтовку и прицелился в Санька, или, может, взял на мушку дуб, за которым он лежал. Санько еще плотнее прижался к земле, ожидая выстрела, но черный бушлат не выстрелил. Это он так схитрил, думая, что если в лесу есть засада, то на его боевой порыв партизаны откроют огонь, и выдадут себя раньше. Черный бушлат закинул винтовку за спину, снова сказал что-то такое, что оба его спутника громко засмеялись. Санько легко потрогал пальцем “собачку” карабина. Когда-то у него был такой казус, что он от волнения нажал не на спусковой крючок, а на защитную скобу.
Колонна двинулась дальше. Всадники слегка покачивались в седлах, а тот, что был в коже, не ехал, а плыл. Его высокий жеребец золотистой масти чудно переставлял ногами, и Санько догадался, что это иноходец. А если расстояние позволяет рассмотреть такие вещи, то чего еще можно желать. Саньку показалось, что именно подошел момент приветствовать гостей, но эту границу знала только Маруся. В зависимости от количества врагов, от того, конный он или пеший, она безошибочно угадывала ту границу, тот порог, за которым под лобовым прицельным огнем москали всегда разбегались. Так, если, не удержав первых, начнешь преждевременно сечь дальше, впереди тех они смогут рассредоточиться в цепь, и, приготовившись, учинить страшное противодействие. А подпусти их вплотную, ближе той границы – чего доброго, сгоряча бросятся врукопашную, и тогда еще неизвестно, чей будет верх. “Чувствовать эту границу – это даже не войсковые способности, - говорил про Марусю ее адъютант, бывший прапорщик
150
царской армии Василий Матияш, - это еще намного больше”.
- А что? – допытывались казаки.
- “Голос”, - отвечал Матияш.
- Какой еще “голос”?
- “Сверху”.
- Как сверху? – казаки, ничего не понимая, поднимали глаза к небу.
Матияш оглядывался вокруг, словно боялся, что их кто-то подслушивает и, наконец, говорил: “С горбулевской. Голос из Девич-горы”.
- Огонь! – это был голос Маруси – не с горы, не с неба, не из-под земли, он выскочил из ее груди, несколько тихий, но призывный, голос, за который Санько (он только теперь сознается себе в этом) готов умереть – не за Украину, не за землю, не за волю, а только за этот голос. Самый дорогой в мире голос, что вырывается из нее, из ее груди, из ее птичьего горла, из ее губ, губ, к которым Санько никогда не прикасался, он даже в мыслях себе этого не разрешал, но он научился целовать ее в голос, в этот голос, который для Санька и сейчас не утонул в стрельбе пулеметов, в диком ржании коней, в сплошной пальбе винтовок, в стрельбе Санькового карабина, к которому он прильнул щекой, словно к девушке, и его бедное сердце тёхкает и замирает от этого объятия с винтовкой-любовницей. Она у него очень красивая: ореховый ствол гладенький, как девичья щека, и сгиб у нее возле замка очень красивый, тонкий, как шея у лебедя, и ствол вороновой стали ровный, гладенький, приятный на ощупь, хотя бывает холодный, бывает теплый, а бывает и горячий, как вот сейчас. Маруся не ошиблась, угадала границу приближения врага. Красная конница под плотным огнем сначала сбилась в кучу, передние кони вздыбились, задние налетели на передних, некоторые упали с диким протяжным ржанием, и это ржание раненых лошадей Саньку теперь напоминало женский крик. Он давно заметил, что раненые или напуганные кони верещат как женщины, и Саньку их было очень жаль. Крик, пускай и вражеских коней, раздирал ему душу, поэтому Санько никогда в них не стрелял, хотя иногда и нужно было, даже существовала такая боевая команда: “ Первый по людям, другой – по коням!”. И еще непонятным было для Санька постановление, которое привезли с фронта бывалые в делах кавалеристы: когда на тебя наступает куча конников, то целиться нужно по конским ногам, а когда она оступится, то стреляй в голову всадника. Такая, говоря, военная наука и так пишут в книжках. Но Санько и в этот раз не стрелял в коней, он целился только в черную кожанку, в бушлаты, ватники, шапки, фуражки, палил в толпу пришельцев, радуясь каждому попавшему выстрелу, хотя в этом коловороте не всегда заметишь, куда легла пуля, где тот песьеголовец, в которого ты целился, где же тот черный бушлат, что, сжимая зубы, брел на мушку Санька, и сейчас неизвестно, куда подевался тот, который был в коже, упал, Санько даже видел, как жеребец золотистой масти побежал без всадника к речке... к Кирше... Кирша... Кирша... Ну, и название... побежал, смешно выкидывая ноги вперед, так как он – иноходец. А черный бушлат Санько потерял из глаз. Всадники сбились в кучу, немало их упало под пулями, а остальные – так-так, стали убегать. Они рассеялись полем, кое-кто подался в сторону речки, кто-то кинулся искать укрытие в березняке, но оттуда застучали пулеметы, ударили винтовки – это уже дали о себе знать пилиповчане. Именно в эту минуту Маруся должна подать команду “На коней!”, потому что нет лучшего
151
момента рубить врага тогда, когда он в панике спасается бегом – тут и слабый всадник быстрее зарубает более сильного, когда тот убегает, чем наоборот, так как таков закон страха и отваги, говорила Маруся, страх пьет яд, говорила она, а отвага пьет мед. Они все ждали ее команду “На коней!”, коноводы все были на иголках, но Маруся молчала. Она поднесла к глазам бинокль, и увидела то, чего еще не видели казаки. Там, откуда недавно появилась колонна конников, теперь выползла волна подвод, на которых сидела пехота. Не сидели – как муравьи, мужчины уже соскакивали с возов и веревкой тянулись за березняк в тылы пилиповчанам. А те, которые остались на месте, торопливо разворачивали пушку. Рассеянные всадники над речкой, возвращались на свои исходные позиции.
Соколовцы, которые всегда бились по собственной воле, растерянно посматривали то на Марусю, то в дальний конец дороги, где движение становилось все заметнее. Нужно было отходить, но кровь из носа – предупредить пилиповчан, которые, засев в березняке, не понимали, почему Маруся медлила с атакой. Они не видели, что по ту сторону поля надвигалась туча. Посылая к ним для связи Кулибабу, Маруся дала команду “в полный голос”. У Санька пересохло в горле. Такой приказ не мог касаться только пилиповской сотни. Это означало, что весь отряд рассредоточивается до нового сбора.
Вскочив на свою кобылу Гальку, Санько лесом взял вправо, чтобы выйти на березняк той тропинкой поля, которая не проглядывалась со стороны врага. Через какие-то две минуты он уже едва не налетел на всадника с нацеленной в грудь Санька винтовкой. Если бы на ней был штык, то, как раз, холера, достал бы до сердца.
- Куда прешь, уважаемый? – возмущенно спросил Уважаемый, который прикрывал левое крыло пилиповской сотни.
- Полное рассредоточение, - сказал Кулибаба. – Отходим.
К ним подъехали еще казаки. Санько объяснил причину поражения, в каком они оказались. Нужно быстрее рассредоточиваться. У Санька так пересохло в горле, что голос его также рассыпался на порох. Он развернул кобылу в сторону поля, и в это время грохнула пушка. Галька резко качнула головой, ее уши затрепетали, как крылья птицы. Снаряд просвистел высоко в небе, потом грохнуло в лесу черт знает где. Санько криво улыбнулся: наводчик у них не Оверко Липай. Глянув на открытое поле, он увидел темные кучки, словно кто-то там разбросал навоз перед пахотою. Но то лежали конские и людские трупы. Саньку очень хотелось проехать возле них, посмотреть, есть ли там тот в кожанке, а заодно, может, удастся подхватить оружие. Санько только развоевался и просто так бросать поле ему не хотелось. Снова грохнула пушка, снаряд просвистел далеко вверху, упал снова у черта под хвостом. Санько поскакал туда, где лежали убитые. Выехал, словно на сцену – знал, что его сейчас видят казаки, что на него смотрит Маруся. Москали также его заметили издалека. Их пулемет застрочил тише, чем швейная машинка Санькиной бабули Кили. Убитые кони лежали на боках, вытянув ноги, не так как их вытягивают живые, а москали валялись с безобразными лицами, уткнутыми в землю. Они даже не успели поснимать закинутую накрест за спину винтовку, поэтому, чтобы снять ее, нужно было переворачивать трупы, а Санько не любил такой грязной работы. Да вот же он, этот, в кожанке, лежит с раскрытыми глазами, кожанка его продырявлена в нескольких местах: видно, не один Санько брал его на мушку. Пускай бы оделся попроще,
152
то, может, как-то бы обошлось, а так сразу видно, что комиссар, ты смотри, даже успел расстегнуть кобуру. Пули засвистели ближе к Саньку, но он соскакивает с Гальки и вытаскивает из кобуры шестирядный “кольт”, потом видит, как недалеко от него один конь поднимает голову и бессильно опускает ее на землю, потом снова поднимает. Санько не может смотреть, как мучается скотина, он подходит ближе, снимает с “кольта” защиту и стреляет коню в ухо. Выстрел получился очень громкий, намного громче, чем вражеский пулемет, хотя пули, которые тюкали высоко, теперь тюкали рядом, они уже трескают об землю, одна дохнула в щеку, но Санько не верил, что его могут убить, он не представлял себя мертвым. Это было бы просто смешно, поэтому Санько тихо садится в седло, еще раз оглядывается вокруг, но того, в черном бушлате и бескозырке, не видит. Санько пускает Гальку к лесу на рысях. Едется ему весело, за двадцать скоков до леса он даже оглядывается в ту сторону, где глухо стрекочет пулемет, глуше, чем “Зингер” бабули Кили. И в этот момент что-то острое бьет Саньку в лоб, красная пелена, словно китайка, затягивает глаза, он падает, кто-то несет его на руках и снова кладет на землю. Санько даже через красную китайку узнает под собой острое, как топор, лицо Льюдзю Липки, теперь оно у него не белое, а красное, Санько этому удивляется, он пытается что-то сказать, но его рот дрожит в кривой усмешке, но, наконец, он все-таки говорит:
- Льюдзю, - говорит Санько. – А у тебя кровь красная, не голубая.
Его рот так и застывает в веселой улыбке, так как Санько Кулибаба никогда не узнает, что он умер.
III
Его похоронили в Селище возле куста красной калины со сплющенными от ранних морозов темно-красными ягодами. Казаки саблями разрыли землю, пригоршнями выкопали неглубокую могилу, и – прощавай, друже-брате, когда-то все там будем, только не в одно время. Если бы Санькова взбалмошная душа видела его мрачные похороны, то сладко-сладко бы защемила, когда Маруся поцеловала Санька в холодные губы (лоб был залит кровью), чего живой Санько не мог себе допустить и в мыслях. Раньше атаманша проговаривала над убитыми казаками прощальные слова, что поднимало дух и укрепляло волю, а тут нет – Маруся опустилась на колени возле мертвого Кулибабы, прости и прощай, говорила тихо, и вдруг поцеловала его в губы, на которых до сих пор осталась холодная кривая улыбка. Может, вспомнила, как агитировала беспутного Санька в отряд, может, простила его поцелуем или по какой-то другой причине, кто того уже никогда не узнает, так как никто не заглянет ей в душу, в которую она уже сама боялась посмотреть. Там-таки в Селище Маруся сказала Матияшу, чтобы он с хлопцами, кто имеет желание, отходили до Заболочья (к той земляночке, в которой Санько Кулибаба собирался сушить портянки), а все остальные пускай идут на свои гнезда и углы. Дальше посмотрим. Сама она подъедет к Заболочью через день-другой, но ныне имеет свою отдельную дорогу. Дорога эта была недалеко, на хутор Млинок, где Маруся оставила Нарцисса у мельника Свербиуса. Но если по правде, то причина была не в коне: она третьи сутки не спала, она из последних сил держалась на ногах, она должна где-то отлежаться – не отоспаться, а
153
отлежаться, как раненый зверь. Вести о смерти Мирона высушили ее сердце, высосали кровь, и теперь в жилах холодела только та жидкость, которую влил в ее вену сумасшедший врач. Он влил в нее вакцину из крови мертвого, и может, именно поэтому она упала на колени возле мертвого Кулибабы и поцеловала его в холодные губы. Нет, не только Санька она целовала, она вместе с ним прощала Ангела, прощала Шума, Пяту, Бугая, но не Мирона, не Мирона, Господи, не Мирона! Почему она поверила этому душевнобольному врачу, поверила какому-то ветеринару, потерявшему память, который в затхлом сарае проводит опыты над больными, готовит сыворотку из крови мертвецов, записывая свои экспериментальные опыты в замусоленную тетрадь. Нет, нет, нет. Все это было обманом, кошмарным сном, из которого она до сих пор не вышла, но и теперь она едет на Сером в каком-то полусне, в тумане, что стелется низким лесом, или, может, это мгла стояла в ее глазах. Но вот и мельница Свербиуса, которая приютилась в редколесье над речкою Кирша, выплыла навстречу из тумана, и сам Гнат Свербиус вышел к ней, как сотканное из марева привидение. Она видела только его белые обвисшие усы, между которыми двигалась выемка рта, он что-то говорил, говорил, кажется, про стрельбу, которую слышал сбоку Веприка, пушечный снаряд разорвался тут недалеко, говорил Гнат Свербиус, потом взял у нее коня, чтобы отвести в стойло, а когда вернулся во двор, Маруси уже не увидел. Она зашла не в хату, а на мельницу, где из широких сеней одни двери вели на ту половину, в которой мололось мука, а другая – в комнаты для приезжих, которые ожидали своей очереди на помол – тут была даже печка, под стеною стояла широкая лавка, через два маленьких оконца просеивался, словно мука, слабый свет. Маруся в чем была – в кожушке, сапогах, шапке – так и упала на лавку. Не слышала, как зашел Гнат Свербиус, как подложил ей под голову подушку и накрыл суконною киреею. Только Маруся забылась мгновенно – то ли на час, то ли от силы на два, как услышала голос из глубины: “Беги!”. Она подумала, что это сон, но это Гнат Свербиус тряс ее за плечо:
- Большевики! Едут сюда!
И снова Марусе пришлось садиться на Серого, которого Гнат Свербиус не разседловывал, словно знал, что отдых будет коротким. Уже сидя верхом, она увидела конников на мостике через Киршу, потом увидела их на дороге, что вела к мельнице через лес, и поняла, что это не случайный наезд – москали брали хутор в окружение. Нужно было идти на прорыв, это понял даже Серый – он с короткого разгона перескочил забор, но с той стороны, в которую повернула его Маруся. Редколесье пересекал широкий ров, что сохранялся тут с давних-давних времен вместе с валами. Ее уже заметили, послышались выстрелы, пули залопотали в ветках деревьев, но Серый ровно и плавно перелетел через ров. Марусе показалось, что они с Серым зависли в воздухе под прицелом сотен винтовок. А когда конь, коснувшись земли, вдруг подался вниз, она подумала, что в него попала пуля. Но к ним уже бежали с дикой бранью спешившиеся москали, и тогда Маруся достала из кобуры наган, не выхватила, а достала его медленно, без спешки, оставляя себе какой-то миг времени на раздумье, так как она видела большую несправедливость в том, что внезапная смерть не оставляет человеку даже минуту для последнего слова или мысли. И именно самый важный момент размышления не дал, не разрешил, сурово запретил ей пускать себе пулю в голову, не потому что это был тяжелый
154
грех – отобрать у себя жизнь, а потому, что какая-то невидимая сила сдержала ей руку, дохнув на нее холодом глубинной тайны.
- Не стрелять! Не стрелять! – верещало где-то между сосен, и перед тем, как ее скрутили, Маруся увидела, что Серый медленно встал на ноги. Живой, не покалеченный, он виновато опустил голову, и в его затуманенных глазах было столько жалобы, что Маруся почувствовала, как в ее груди разрывается сердце. Но даже тогда, когда обидчики заломили ей руки, она не слышала ни боли, ни страха, только донимала острая тошнота от их хихиканья. Такая тошнота еще бывает от близкого дыхания смерти. Один москалюга, схватив за шлык, сорвал с нее шапку и стонадцать глаз вылезли из орбит от чуда и перепугу – золотая коса затрепетала в воздухе. Они охотились на эту косу, получить ее вместе с головой было их заданием, но никто не надеялся захватить атаманшу именно сейчас, и поэтому, наслышанные страшных чудес о ее ведьминской силе, они от неожиданности больше испугались, чем обрадовались. И даже те, кто увидел такую юную девушку, кидало их в оторопь, но только настоящая ведьма могла преобразиться в юную деву с золотой косой. Тут подошел всадник в черном бушлате и бескозырке, он хотел подъехать к Марусе вплотную, так, чтобы конь ткнул в нее мордой, но норовистый жеребец резко остановился за две сажени до девушки, как будто уперся головой об какую-то невидимую стену.
- Так вот ты какая! – выкрикнул командир Осназа Мазолин с напускною веселостью, но таким дрожащим голосом, словно схватил воздуха больше, чем могли вместить его легкие.
Маруся видела этого всадника в бинокль в первой тройке колонны, поэтому досадно удивилась, что он живой. На лбу у него, на околыше бескозырки, было выбито тавро “Грозящий” – название судна, на котором служил бывший балтиец, но и теперь он всем своим видом старался быть достойным грозного названия.
- Ты ведь Маруся?
Она молчала, она даже не смотрела на Мазолина, а прислушивалась к чему-то другому, только не к нему, не к Мазолину, и на ее бледном лице бродила загадочная улыбка.
- Я тебя русским языком спрашиваю, или ты не понимаешь по-русски? – ее горделивая усмешка вывела его из равновесия, и он закричал: - Приведите сюда старика!
- Не нужно, - сказала она. – Я Маруся. Что, не видно?
И вдруг рассмеялась в голос, так, что ее коса затрепетала, словно на ветру. Он где-то слышала, что сила ведьм чаще всего спрятана в их волосах.
- Акифьев.
- Я! – выскочил вперед кацапчук в бледно-зеленом ватнике.
- У тебя сабля самая острая. Отрежь ей косу!
Акифьев намотал на руку косу и резанул по ней саблею до самого корня. Под дикий гвалт он потряс в воздухе отрезанной золотой косой.
- Отнеси и брось в речку, - повелел Мазолин.
- Зачем? – не понял Акифьев.
- Потом узнаешь.
- А может, сжечь? – ему не хотелось идти к речке, он боялся, что пропустит самое
155
интересное.
- Я тебе русским языком сказал: бросить в речку! – Акифьев побежал. – Постой!
- Слушаюсь!
- Поищи там в сарае вожжи! Да подлиннее!
Презрительная улыбка не сходила с Марусиного лица, и это доконало Мазолина: они тут все метушатся, волнуются, а эта ведьма их как будто не замечает, они для нее пустое место. Стоит без косы, обстриженная, да еще и улыбается. Мазолин как будто бы впервые увидел, что атаманша одета по-мужски, еще сильнее обиделся и приказал раздеть ее. Они стянули с Маруси кожушок, разорвали на груди рубашку до голого тела, хотели снять все до нитки, но Мазолин их остановил:
- Хватит! А то совсем мозги поплывут, вашу мать...
Она стояла на холоде вольно, не изумлялась, не трусилась, не пряталась от бесстыжих глаз, так как за последние дни уже так привыкла к этому проклятому холоду, что не чувствовала его. Тем более она не испытывала стыда, так как не видела тут ни одной живой души, какую можно было стесняться, если только Серого, но Серый виновато опустил голову, и в его сивых глазах было столько печали, что Маруся снова почувствовала свое сердце.
- Акифьев, ты вожжи принес? Молодец! А теперь привяжи ее к коню!
- К какому коню, товарищ командир?
- Да к этой же ее кляче, так оно будет веселее!
Они прикрепили вожжи Серому к стременам, а другой конец петлею затянули на руках Маруси и так повели лесной дорогой назад в сторону Фастова. Конники ехали впереди, а она шла за Серым со связанными вытянутыми вперед руками, с растрепанными “под горшок” обрезанными волосами, в разодранной на груди рубашке, в флисовых брюках и шевроновых сапогах, на которых время от времени позвякивали шпоры. Маруся шла и думала, что, когда убьют Свербиуса (а они его точно убьют, замучают, повесят, утопят, спалят живьем), тогда никто не узнает, как же попала в руки врага и куда поделась, казаки напрасно будут выглядывать ее возле Заболочья в той земляночке, в которой Кулибаба собирался этой зимой сушить портянки.
- Живей, живей!
Акифьев плеткой ударил Серого, конь шарахнулся вперед, и Маруся только теперь заметила, что он шкандыбает на левую переднюю ногу. Серый словно уменьшил шаг, а потом вдруг начал оседать на передние ноги. Он опустился на все четыре, и никто не заметил, как Маруся, намотав вожжи на руки, оказалась в седле. Все случилось мгновенно, конь, вытянув шею, резко поднялся на ноги и рванул с дороги к лесу.
- По лошади! Стреляйте по лошади! – закричал Мазолин, разворачивая своего жеребца
Серый, пригнув уши, как заяц, запетлял между деревьями, а потом выскочил на просеку и еще выше задрал хвост. Позади заухали выстрелы, это только подбадривало Серого к бегу. Он рвал копытами землю, которая летела сзади него вместе с клочьями пены. Никакие выстрелы им были не страшны, так как Серый летел быстрее пули, а навстречу свистел такой пронзительный ветер, который, наконец, сорвал с Марусиных глаз слезы.
156
IV
Про тот бой под Веприком Мазолин никому и никогда не рассказывал, но из-за потерь в особый отдел он был обязан письменно доложить штабу 12-ой армии, что “в бою с бандой Маруси погибли политрук Осназа Топольский, комвзвода Ошкуров, убиты также 24 красноармейца и 19 получили ранения. Потеряли 32 лошади”. А про недавний плен атаманши Мазолин в письменном рапорте не указал. Как будто бы такого и не было совсем, как бы ему это пригрезилось. Еще тогда, когда ведьма исчезла у них из-под носа, Мазолин хотел, было, послать Акифьева к речке, чтобы выловить и принести ее косу. Но не послал. Постеснялся.
V
От хутора Млинок, где находилась мельница Гната Свербиуса, откуда Марусе удалось убежать на Сером из ее пленения красными, она направилась в Заболочье к той земляночке, в которой погибший Санько Кулибаба собирался сушить зимой портянки.
Когда она поняла, что ее уже никто не преследует, она остановилась и освободилась от петли, которой красные связали ее руки.
Так как она была одета только в нижнюю разорванную рубашку и брюки, чтобы не закоченеть, она прижалась, насколько было возможно, к телу коня. От коня поднимался не только жар, но и пар от бешеного бега.
В Заболочье она обнаружила казаков, которые были захвачены большевиками и не могли возвратиться домой. Ей освободили штабную землянку, привезли из села бабку Саньки Кулибабы Килю, которая неделю натирала тело Маруси гусиным салом. И еще молодой организм выдержал, она даже от переохлаждение не заболела.
VI
С установлением зимних дорог большевики не только отлавливали повстанцев по селам и хуторам, но и планировали напасть на место нахождения ядра повстанцев в Заболочье – об этом свидетельствовали приходившие повстанцы.
Следовательно, нужно было объединяться с другими партизанами. Так и оказался отряд Маруси в общем отряде Артема Онищука.
Вместе они решили пробиваться к границе, чтобы уйти в Польшу.
В ходе рейда стало известно, что на их пути в селах Овраги и Хвостивцы находятся красные. На совещании было принято решение их атаковать. Каждый из командиров отделов получил задачи.
Атака произошла в ночь на 9-ое декабря 1920-го года. В селе Овраги повстанцами было уничтожено 16 бойцов 216-го полка 24-ой дивизии. Одновременно в селе Хвостивцы
157
повстанцы побили, а потом отпустили шесть милиционеров.
В тот же день повстанцы проходили села Головеньки, Боблив, Байракивку, Луку-Немировскую, Никифоровцы в направлении села Колюхов.
Чтобы добраться до села Колюхов нужно было переправиться на противоположную сторону реки Южный Буг. Возле села Никифоровцы река была довольно широкая и глубокая. И хотя к тому времени она местами затянулась льдом, однако было бы очень неосмотрительно рассчитывать переправляться по такому льду на противоположный берег. Поэтому Артем, который вырос в этих местах, взял направление на паромную переправу, которая находилась между селами Никифоровцы и Колюхов.
Через паромную переправу крестьяне окружных сел Колюхово, Соколинец, Канавы и Дзвоница часто ездили на рынок в город Немиров, а также в центр уезда Брацлав. Для того чтобы не приходилось долго ожидать встречных путешественников, на переправе почти постоянно находился помощник. Оплату за свою работу он получал от тех людей, которых переправлял через реку. На холме возле переправы был выкопан земляной шалаш, в котором устроили хорошую дровяную печку. Это позволяло паромщику находиться на переправе даже и в холодное время. Зимой река перемерзала, и тогда через нее ездили санями и ходили пешком.
Паром приводился в движение паромщиком и людьми, которые переправлялись через реку. Для этого на металлический трос, который закреплялся на столбах, установленных на противоположном берегу реки и проходил через два столба, расположенных на одной из сторон парома, надевался специальный повод. Повод был в виде деревянной рукоятки с отверстием, через которое продевали трос. Когда повод заворачивали под углом к тросу, то его сцепление с ним становилось настолько жестким, что можно было тянуть паром по воде в нужном направлении. Паром имел вид большого деревянного квадратного корыта с настеленной сверху деревянной палубой. Размеры сторон этого корыта достигали десяти метров, что позволяло перевозить на нем не только людей, но также скот, коней и телеги.
Когда объединенный отряд переправился через реку, то, расспрашивая встречных крестьян, которые ехали к городу Немиров, Артем узнал, что в Колюхове находится небольшой отряд из пяти красноармейцев. Этот отряд размещался в доме помещика Врублевского, и, судя по рассказам крестьян, не очень заботящихся о том, чтобы организовать надлежащую охрану.
Красноармейцы имели на своем вооружении, кроме винтовок, еще и ручной пулемет “льюис”, а потому было неосмотрительно вступать с ними в открытый бой.
Получив эту информацию, Артем дал команду колонне остановиться в небольшом лесу, который находился почти возле реки за озером-старицей.
Артем пригласил к себе Маруся и приказал заняться красноармейцами, передал руководство объединенного отряда атаману Лихо, сам отправился к родной сестре Татьяне, которая недавно вышла замуж за жителя этого села Ивана Кулибабчука.
Маруся отделила из своего отряда десять казаков, попросила у Артема одного из местных жителей, который неплохо знал окружающую местность, и отправилась в сторону Колюхова.
Уже темнело, поэтому Маруся рассчитывала в этих сумерках подойти к дому
158
Врублевского и, напав на красноармейцев неожиданно, разоружить их. Так и произошло.
Руководимый ею отряд вошел в село со стороны нового дома профессора, потом пошел по окраине улицы, которая пошла от названия Усадьбы (это была усадьба профессора психоневрологии Николая Попова, который практически в усадьбе не проживал и приезжал из Одессы только на отдых). От усадьбы отряд проскользнул напрямик через огородные участки крестьян и прудовую плотину, вышел возле усадьбы Врублевского (это было одноэтажное, добротное построенное из кирпича здание).
Одно из окон дома помещика Врублевского было ярко освещено керосиновой лампой, которая стояла прямо на подоконнике. Заглянув через это окно вглубь дома, Маруся увидела за столом в прихожей пятерых красноармейцев, которые мирно ужинали. Они даже не выставили внешней охраны, рассчитывая на то, что ночью повстанцы нападать на них не станут. Атаманша дала команду двум казакам стать с винтовками к окну, а двое других взяли под наблюдение подходы к дому со стороны площади и улицы. После этого во главе других четырех казаков с маузером в руках она ворвалась в дом с громкой командой:
- Всем руки вверх! Бросить оружие и без шуток, потому что буду стрелять
Красноармейцы, неожиданно застигнутые повстанцами за ужином, послушно подняли вверх руки с зажатыми в них ложками и горбушками хлеба и дрожали от страха, ожидая выстрелов. Однако Маруся решила их не убивать, а только дала распоряжение закрыть пленных в хозяйственном помещении и выставила охрану.
После этого она послала гонца к атаману Лихо (Артем отбыл к сестре) с вестью, что село освобождено от большевиков и колонна может расквартироваться в нем на ночевку.
Вскоре основная часть объединенного отряда была размещена в доме и других хозяйственных строениях усадьбы профессора Попова. Отряд Маруси расположился вечером в доме пана Врублевского, выставив на ночь охрану вокруг дома.
VII
После обеда 10-го декабря колонна объединенного отряда снова отправилась в дорогу по направлению к городку Печера. Плененных вчера красноармейцев после доклада Артему, он тоже решил их не расстреливать, чтобы не обременять и так грешные души повстанцев еще и этим грехом. Но и с собой забирать их тоже не было совсем никакого смысла, поэтому так их и оставили запертыми в подсобном помещении дома колюховского помещика. Открыла их прислуга дома, когда колонна была уже далеко от Колюхова.
Пройдя без препятствий через села Капово и Рогизня, под вечер 10-го декабря 1920-го года в городке Печера (теперь Тульчинский район), повстанцы сожгли помещение комнезама, а также повредили телефонную связь. В Печере снова был собран совет атаманов, на котором приняли решение разделить объединенный отряд на отряды с тем, чтобы усложнить их дальнейшее преследование частям Красной армии.
12-го декабря 1920-го года прошел сильный снегопад, и Марусе стало понятно, что
159
ее отряду не удастся легко оторваться от преследования красных войск. Двигаясь по следам его коней, большевики раньше или позже обязательно догонят отряд и уничтожат. Поэтому в конце декабря 1920-го года атаманша Маруся распустила свой отряд, а с желающими отправилась в сторону реки Днестра, чтобы перейти в Румынию.
Глава семнадцатая
Маруся с группой сопровождавших ее повстанцев стояли на краю высокой кручи, где обрывался скалистый берег и там внизу, в темной ночи, едва было видно, как блестит холодная вода Днестра. Маруся даже слышала, как его течение шуршит в быстром русле. По этой речке проходила граница с Румынией, до которой они добирались последние трое суток. Маруся долго не соглашалась отходить за Днестр, говорила, что когда уже припечет, то лучше уйти за Збруч, там живут наши люди. Но Василий Матияш настаивал идти за Днестр, на той границе меньше скопление московского войска. И тянуть уже было нельзя, уже все, припекло – украинская армия разбита, теперь большевики все силы бросят на повстанцев, а на носу зима. Поэтому главное – выскочить на свободу, а там будет видно. Из Румынии можно будет переехать и в Польшу, а за ней Збруч, если уже на то пошло. Немало значит и то, говорил Василий Матияш, что над самым Днестром, в селе Серебреи, живет его свояк Андрон, который примет их на ночевку и даст добрый совет. Многие казаки о загранице и слушать не хотели, им эта заграница казалась на краю света. Лучше пересидеть зиму дома, а там время покажет. Даст Бог, все перемелется и как-то оно будет. Даже Льюдзю Липка, который в Польше был бы как у себя дома, не мог бросить свою несчастную Марилку. Тем более никто не собирался уходить за границу большими частями, так как таких интернировали за колючую проволоку и поляки и румыны. Поэтому к Днестру их поехало сначала пятеро: Маруся, Василий Матияш, Иван Горобей (левая рука атаманши), Пилип Золотаренко и Сакив Галдун. Красная застава стояла в Могилеве, а в селе Серебреи, которое лежало за шесть верст от города, большевиков не было.
Соколовцы въехали сюда ночью над речкой, которая делила территорию пополам: на одной стороне жили волохи, а на другой – русские. Поэтому речка имела два названия: для волохов она была Джуглая, а для русских – Серебрейка, хотя на обеих сторонах стояли похожие между собой убогие хаты, покрытые соломой и камышом. Свояк Матияша Андрон жил с семьей на русском берегу в небольшой глиняной хате с одним крошечным оконцем. Таким крошечным, что через него едва пробивался свет. Но свояк Андрон, добрая душа, как будто бы и хотел положить их в хате, но на такую компанию места не хватило бы – он поместил гостей вместе с лошадьми в сарае, который был значительно просторнее его жилища. Зато, не обращая внимания на позднее время, принес казакам мамалыги и кувшин вина, а коням дал сена.
Свояк Андрон похвалил их за то, что они приехали верхом, так как местные извозчики к конным беженцам относились благосклонно – коней они у тебя купят, обычно, за бесценок, однако заплатят румынскими леями и обеспечат-таки документом, что жандармы на той стороне Днестра не придерутся. Уже на утро свояк Андрон привел к ним в сарай перевозчика, вероятно, позвал его с волошского берега, хотя это был не волох, а чистой воды цыган в помятой фуражке с обвисшими отворотами – Маруся когда-
то в такой освобождала Мирона из дарницкого плена. Цыган хорошо разговаривал
по-украински, и просил называть его домнул (паном) Грицеску. Он внимательно обвел их глазами, которые прокручивались в орбитах, словно колеса, задержал взгляд на Марусе, а потом подошел к коням. Осмотрев каждого коня от зубов до хвоста, домнул Грицеску, в конце концов, похлопал их по крупу, словно оставил печать, и назвал непонятную цену в леях. К Серому он приглядывался больше всего, что-то мычал себе под нос, крутил головой. Потом, отступив на несколько шагов, приценивался на расстоянии. Подойдя е Серому вновь, он потрогал его за левое переднее колено, и, не хлопая по крупу, назвал очень маленькую, совсем мизерную цену.
Далее домнул Грицеску сказал, что если они согласятся, то сегодня ночью он перевезет их на челне на правый берег Днестра и передаст в руки своему человеку. Тот доставит их в местечко Вовчинец, где русских живет больше, чем волохов, и порекомендовал, что делать дальше. Деньги за коней они получат на этом берегу. Да, это небольшая сумма, сказал цыган, но за документы теперь берут дорого. Коней он заберет тогда, когда они, беглецы, будут уже в безопасности. На место встречи ночью их привезет домнул Андрон. Цыган ушел, а они остались все вместе, словно в оцепенении. Даже Сакив Галдун, который болтал без умолку на каждом шагу, теперь ничего не мог сказать. Он взял кувшин, налил полную кружку вина и выпил ее, пустив красный ручеек по подбородку.
- Сакив, ты слышал? – спросил Пилип.
- Что?
- Он назвал нас беглецами.
- А кто же мы?
- Путешественники, - сказал Пилип.
Матияш пошел к свояку в хату переговорить. Иван Горобей лег на соломе и попытался заснуть. Впереди была еще одна тяжелая ночь.
Маруся подошла к Серому. Он печально опустил голову, как будто понимал, что цыган оценил его очень дешево. У него были красивые маленькие уши. Маруся хотела их погладить, но она знала, что Серый не любит, когда трогаю его уши. Она коснулась его шеи. Серый поднял голову и пытался спрятаться у Маруси под мышкой. Он дышал теплом на ее застывшее сердце. Этот день показался Марусе самым длинным в ее жизни. Противоположный берег Днестра казался совсем близким, в густой темноте просматривались только невыразительные силуэты холмов. Внизу холодно блестела поверхность реки, и слышен был ровный шум течения.
- Как же тут спускаться к воде? – спросил Сакив Галдун. – Тут сам черт ноги сломает
- Черт сломает, - сказал цыган, - а ты нет. В круче сделаны ступеньки.
Он достал из мешочка пачку денег, уже разложенных на пять кучек.
- Это вам, барышня, - протянул Марусе пачку леев. – Можете пересчитать.
- Мало, - вдруг сказала Маруся. – Вы, домнул Грицеску, плохо понимаете в конях.
- А как же наш договор? – даже в темноте было видно, как крутились колесиками его глаза.
- Договор был нечестный, - сказала Маруся. – Я его разрываю.
162
- Сколько же вы хотите? – спросил цыган.
- Нисколько. Мой конь, домнул Грицеску, не продается.
- Почему?
- Так как он не имеет цены.
- Тогда и перевоза не будет! – сказал цыган.
- Это понятно! – от души засмеялась Маруся.
- Для чего вы морочили мне голову?
- О, да! Это на самом деле плохо с нашей стороны, - сказала она. – Но я отблагодарю вас за потерянное вами время. Я, домнул Грицеску, куплю у вас фуражку.
- Фуражку?
- Да! Я заплачу вам за нее больше, чем вы мне даете за коня.