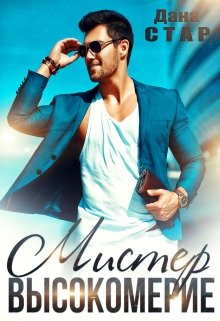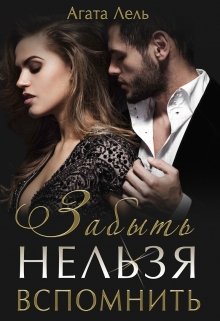Бабушка
Бабушка
Я после работы пришёл к своей бабушке Люсе. Она уже давно жила с семьёй дочери, моей тётки Юлии. Бабуля встретила меня счастливой улыбкой. Мы расцеловались, и она повела носом: проверила, не пахнет ли от меня спиртным. Убедилась, что нет, обрадовалась и спросила:
- Чего так рано? С работы выгнали?
- Пока нет, - ответил я, - сегодня же пятница, у нас короткий день.
- Слава Богу, - вздохнула она и стала ворчать по поводу моей одежды. Сказала про соседку Лену, которая тоже считала, что я мог бы одеваться получше. Я сразу спросил, не зайдёт ли она сегодня. Бабуля не ответила: знала, что Лена нравится мне, и была от этого не в восторге. Эта высокая и миловидная женщина, к сожалению, родилась лет на десять раньше меня. Я с обожанием смотрел на неё снизу вверх и чувствовал себя пигмеем. Правда, сидя за столом (Лену, как и многих других соседей по дому, часто приглашали на торжества), я забывал об этом и всячески ухаживал за ней, используя свои способности говорить женщинам приятные слова. В её присутствии способности мои утраивались, а слова порой складывались в рифму.
У нас с Леной была тайна. На следующий день после чьего-то дня рождения было воскресенье, и я остался у бабушки ночевать. А когда Лена утром зашла, она, увидев меня, вдруг засмущалась и даже покраснела. «Мне такое приснилось», - сказала она и поспешила уйти. Я сразу понял, почему она смутилась, мне и самому стало неловко, ведь и мне приснилось такое, о чём я и мечтать не позволял себе. И в этом сказочном сне мне было так хорошо! И Лене, надеюсь, тоже.
Несмотря на воспоминания о Лене, я заметил, что бабушка сегодня как-то особенно хорошо выглядит. Ей был очень к лицу новый халат. Она и в свои семьдесят пять оставалась красивой, а живые голубые глаза заставляли забывать о её возрасте.
- Давай я тебе какого-нибудь дедка найду, - предложил я.
- Ты себе сначала жену найди, - проворчала бабуля и спросила:
- Кушать сейчас будешь или подождёшь наших?
Укладываясь на диван, я ответил, что подожду, и поинтересовался:
- Ты меня любишь?
- Водку не дам, - буркнула она, - сейчас чай принесу.
- Одну рюмку, - прокричал я ей вслед и уткнулся в телевизор.
Через минуту прибыл поднос: на нём бутерброды, украшенные зеленью, дымящаяся чашка, кусок моего любимого пирога с маком, тарелочка с ломтиками лимона, конфета и обязательная белоснежная накрахмаленная салфетка. Лимон вселил надежду, и я пробурчал: «Не любишь ты меня».
- Спасэ, шун шянворды, - сказала она по-армянски. (В переводе трудно представить, что у неё «подожди, сукин сын» - звучало не только не грубо, но даже ласково).
Со словами: «Никому не говори, для тебя спрятала», она открыла бельевой шкаф и достала оттуда бутылку коньяка.
- Ничего себе! - изумился я, разглядывая бутылку (это был «Ахтамар» десятилетней выдержки). - Откуда?
- Не твоё дело, - бабушка принесла из серванта малюсенькую рюмку, сама наполнила её, и, не обращая внимания на мои протесты, вернула бутылку на прежнее место.
- Будь здорова, бабуля, - сказал я и опустошил рюмку.
- Разве можно такой коньяк залпом пить? – возмутилась она.
- За твоё здоровье можно, - ответил я.
- Вчера мне опять с сердцем плохо было, - пожаловалась она. – Боюсь умру, и детей твоих не увижу.
- Это нечестно. Мало того, что моё дитё, ещё не родившись, осталось без бабушки, так ты хочешь….
Не нужно было этого говорить: я, хоть и косвенно, но напомнил о недавней смерти мамы, и на глазах бабушки сразу появились слезы. Половина этих слёз принадлежала её невестке, а вторая – мне: она чувствовала, что я никак не мог свыкнуться с уходом мамы. Надо было срочно менять тему.
- Ба, а ты деду изменяла?
Я знал, что спросить. Возмущение добропорядочной кавказской женщины не имело границ, и в меня полетели сочные армянские ругательства: ишупочи и шанкаки (ослиные хвосты и собачьи какашки).
Когда-то в первом или во втором классе я сказал однокласснику: «Пошёл вон!». Учительница Надежда Степановна возмутилась: «Саша, как тебе не стыдно: что за слова? Ты можешь себе представить, чтобы кто-то из твоих родителей позволил себе такие выражения?»
- Родители - нет, - ответил тогда маленький стукачок, - а бабушка часто ругается.
Мне нравилось, как она негодует: у неё это получалось очень артистично. Чтобы продлить удовольствие, я подлил масла в огонь, сказав, что если бы у неё не было, пусть и маленьких, но грешков, она бы так не горячилась.
Тут с улицы раздался оглушительный рёв мотора. Я вскочил, успев подумать о заблудившемся самолёте, и о том, почему на этот ужас не реагирует бабушка, а она, увидев мою реакцию, спокойно сказала: «Тёма едет».
- Какой Тёма? – выдохнул я по дороге к окну.
Это, действительно, был Тёма. На мопеде. Мой двоюродный брат.
- Ты что, не знал? – удивилась бабушка.
Я слышал про мопед, мне говорили про шум, который он издаёт. Но не до такой же степени!
Бабушка пошла кормить младшего внука. Он не любил меня. Год назад я позанимался с ним математикой перед его поступлением в техникум и попытался впихнуть в него всё то, что он прогулял за два последних года. А оно почему-то не впихивалось. Когда я исчерпал все свои возможности и сорвал голос, я его побил. В общем, репетитором я оказался отвратным. До сих пор стыдно. Тёма мог отыграться много лет спустя: я хотел, чтобы он поучил меня вождению машины. К счастью меня учил другой человек. Почти безуспешно. Тёма с его характером, наверное, прибил бы меня, причём это было бы справедливо.
Я услышал, как бабушка уговаривает его зайти в комнату поздороваться со мной («это же твой брат»), и его бурчание, а потом и вопли в ответ….
Разбудил меня теперь уже знакомый, а потому и не такой страшный, грохот: Тёма убыл. Хоть я спал совсем недолго, бабушка успела накрыть меня пледом. По телику ничего интересного не было, и я заскучал. Захотелось выпить ещё рюмку коньяка, но я постеснялся. Решил позвать бабулю, но услышал, что открылась входная дверь (она никогда не запирала её на ключ), и кто-то пришёл. Я проверил, не Лена ли, и опять улёгся. Потом соседка ушла, а бабушка стала разговаривать по телефону. Я взял с книжной полки томик с рассказами Чехова и расположился в кресле под торшером имени дяди Цолака.
Дядя Цолак был бабушкиным братом. Он жил во Львове в бывшем монастыре, ставшем общежитием автозавода, на котором и работал. В детстве мы с бабушкой каждое лето приезжали к нему. Бабушка – наводить порядок в его комнатушке, а я – за компанию. Комнат на этаже было не меньше двадцати, а в конце длиннющего коридора был туалет, в который я стеснялся ходить: чтобы попасть в него, надо было пройти через кухню, всегда битком набитую хлопочущими женщинами. Большую часть дядиного жилища занимал рояль, на котором он играл по вечерам. А я под роялем спал, и, проснувшись, неоднократно стукался головой о его днище. Ещё в комнате было много стопок старых журналов. Журналы я с удовольствием читал, особенно «Крокодил», а бабушка всё пыталась их выбросить, хотя бы часть. Безуспешно. Дядю Цолака вообще очень трудно было в чём-то убедить или уговорить. Он почти на всё отвечал: «Глупости не болтайте» или просто «глупости». В том числе и, когда бабушка уговаривала его получить нормальную квартиру. Ему не раз предлагали, но он отказывался в пользу семейных. Жизнь, мягко говоря, не гладила дядю: во время войны он попал в плен. А после немецкого лагеря его, как и многих других, отправили в советский. Вернулся он не в свою семью (у него в Москве были жена и сын), а в бабушкину. Жить с ним было нелегко: он часто выбрасывал с таким трудом приобретённые продукты. «Ты, что с ума сошла, - кричал он, выхватывая у бабушки из рук кусок масла, - оно же отравлено». Во Львов он переехал неожиданно для всех.
В один из своих приездов в Киев дядя как-то захотел почитать, но ему не понравилось освещение. Ни слова не говоря, он оделся и вышел, а через час вернулся с купленным в комиссионке торшером.
От чтения меня отвлёк родной голос:
- Как тебе не стыдно?!
«Доложили», - сразу понял я.
- Бессовестный, пошёл в такую хорошую семью, - продолжила сердито выговаривать мне бабушка, - сам опозорился, и меня опозорил.
- Что я такого сделал?
- Зачем ты сказал, что не любишь пить водку из рюмок, зачем набрехал, что у тебя было две жены? Зачем ты, дурак такой, сказал, что в следующий раз принесёшь справку из поликлиники и….
- Венерологического диспансера, - закончил я за бабушку.
Увидев, что она слегка улыбнулась, я понял, что пришло моё время. Я сказал, что меня очень раздражала тётка девушки, с которой меня привели знакомиться: она всё время прямо сверлила меня взглядом, и даже спросила, почему у меня такие круги под глазами: не болею ли я. Добавил, что еле сдержался, чтобы не сказать ей, что я ничем серьёзнее триппера не болел. За что тут же получил от бабушки по лбу. Потом я признался, что девушка мне просто не понравилась, поэтому я и вёл себя, как скотина, чтобы не понравиться ей. Правда, ничего у меня не вышло: она записала мне свой телефон, и сказала, что будет ждать моего звонка. А вот тётушка её, как я узнал, разнесла по всем знакомым, что я и водки слишком много выпил, и глаза у меня какие-то не такие. Намекала на то, что я не только пьяница, но, наверное, и наркоман.
- Не понравилась она ему, - проворчала бабушка. - А что, твоя кикимора, которую ты недавно к нам приводил, лучше?
Я смолчал насчёт кикиморы, и бабушка рассказала мне пословицу. Примерный смысл её заключался в том, что армянские парни, когда заходят в конюшню, полную прекрасных и статных лошадей, долго-долго выбирают и, в конце концов, умудряются найти в ней единственную ослицу. Да ещё и тут же целуют её прямо в зад. Меня в этой пословице особенно удивило окончание про поцелуй, и я спросил, не сама ли бабушка про это придумала. Она не удостоила меня ответом и начала сокрушаться:
- Такая хорошая семья. Они очень обеспеченные люди: папа в органах работает.
- Что ж тут хорошего, если в органах? – попытался возразить я. - Мало твоим родителям, а потом и деду от них досталось!
- Аствац, коранам ес! («Господи, ослепнуть мне!»), - вдруг воскликнула бабушка. – Как ты на своего отца похож!
И опять на её глаза навернулись слёзы: папа разбился на мотоцикле в сорок лет. Меньше чем через год после смерти деда. «За что ей столько всего выпало?!». Чтобы отвлечь бабушку я сказал: «Дай ещё рюмочку коньяка», и попал в точку. «Не дам, хоть режь», - получил я в ответ, и началось:
- Какот шун (обкаканая собака), в кого ты уродился? Дед не пил, отец не пил.
- Ага, не пил! - возразил я.– Сколько себя помню, всегда у нас дома компании собирались.
- Да, компании твой отец любил, даже после работы с собой кого-то из друзей приводил, чтобы вместе обедать. И Вову Гуслицера, и Юру, и Петра Васильевича.… Вот они любили выпить, особенно, Вова, а папа – нет. Даже за столом, на праздники одну-две рюмки выпьет и всё. Тобой клянусь, я его никогда пьяным не видела.
- Ба, расскажи что-нибудь, - попросил я.
- Некогда мне, пирог сгорит, - бабушка поспешила на кухню.
Пришла с работы моя вечно-молодая тётка Юлия.
Когда-то мой приятель-сосед зашёл ко мне за книжкой. Ему открыла Юля, мы тогда жили все вместе.
- Классная девушка у тебя, - сказал он, уходя.
- Дурак, - ответил я, - какая девушка?! Эта моя тётка. Она на пятнадцать лет меня старше.
Юля в детстве была у меня вместо няньки. Мама много работала и часто ездила в командировки, папа тоже приходил поздно, и бабушка говорила Юле так: «Хочешь идти гулять – иди, но бери Сашу». Ну, она и таскала меня с собой, а Юлины подружки, развлекаясь, учили всяким глупостям. Как-то в магазине, пока бабушка стояла в очереди, я залез на стол и начал декламировать стихотворение, в котором были такие слова:
Я Хрущёва не боюсь,
Я на Фурцевой женюсь,
Я схвачу её за….
Бабушка выскочила из очереди, сгребла меня в охапку и бежать. Больше она в этот магазин не ходила.
Часам к семи за большим столом собралось человек двадцать. Кого тут только не было!
Тёткин муж и два его друга. Им было лет под пятьдесят, и я, когда слышал обрывки их разговоров о работе, ремонте машин и о строительстве дач, с ужасом думал, до чего же скучно жить в их возрасте.
Мои двоюродные тётки с Шекспировскими именами, одну из которых я называл генералом. Будучи необъятных габаритов, она своим громовым голосом не говорила, а раздавала приказы, распекала или, в крайнем случае, поучала. Её, правда, мало кто слушал. Вторая была обычных размеров и небольшого росточка. Говорили, что в молодости она была «очень и очень», и даже стала причиной семейной драмы: в неё были влюблены два родных брата. Мне не очень верилось, да и вообще эта тётка меня мало интересовала.
А вот то, что из очередной длительной командировки приехал её сын Вова, меня радовало. Он был инженером и работал в монтажной организации. Многие, в том числе и я, считали его «немного с приветом»: он иногда высказывал такие вещи, что я, хоть и был младше его на пять лет, снисходительно посмеивался над ним. Правда, спустя какое-то время, вдруг убеждался в его правоте. Вова со временем не изменился, и ещё не раз поражал меня. Сначала тем, что вдруг взял и переехал в Армению, и служил там в церкви, а в пятьдесят лет усыновил двух детей из детского дома.
Ещё присутствовала семейная пара, которая прожила несколько лет за границей. Он к месту и не к месту восторгался тамошней жизнью, в основном, едой и напитками, а, когда ему предлагали вино, он долго разглядывал этикетку, упоминал аналогичные иностранные вина, а если говорил «это неплохое вино», у него это звучало очень свысока. Так же звучала у него и похвала артисту: он с таким видом говорил «это мой любимец», что, казалось, узнай артист о похвале, тотчас бы умер от счастья. Супруга вторила ему и выражалась только в превосходной степени: «вы не представляете», «бездна вкуса», «изумительно».
Обычно они меня бесили, но в этот раз я, опьянённый соседством Лены, не обращал на них внимания, а всё время болтал и острил. Говорил тосты в честь тётки, бабушки и других женщин. Конечно, не забыл и про Лену, хоть и чувствовал, что её муж, серьезный и крупный мужчина когда-нибудь прибьёт меня. С удовольствием слушал киношные байки Сергея Ивановича, пожилого актёра (на стене висели несколько его хороших рисунков акварелью) и его жены, тоже актрисы, миниатюрной, доброжелательной и улыбчивой Анечки. Несмотря на возраст, язык не поворачивался называть её по-другому. Бабушка очень дружила с ней и называла Анечкой Сергеевной.
Была ещё одна женщина, которой я восхищался. Она, дочь известного академика, была знакома с такими людьми, что захватывало дух. Но Наташа никогда не кичилась этим. Как и тем, что объездила полмира – она была очень хорошей переводчицей, и её часто брали в состав правительственных делегаций. Она не была словоохотливой, но, если что-то рассказывала, интересно было всем.
Кроме меня и Сергея Ивановича тосты провозглашал ещё один наш родственник. Он говорил важно, весомо и долго, явно любуясь собой. То, как и что он говорил, по-моему, нравилось только его супруге, которая с обожанием смотрела ему в рот.
Я по-своему любил всех этих людей, ещё и потому что все они очень уважали и любили мою маму и бабушку. Вот только нет-нет, да и проносилось в моей голове что-то вроде обиды: «Вот все эти люди: они едят, пьют, веселятся, многие из них старше мамы. Они живы и здоровы, а мамы моей нет, и уже никогда не будет».
Бабуля всё время следила за мной – сколько я пью, и хорошо ли закусываю. Чуть ли не после каждой рюмки она показывала мне кулак, и по её губам я читал: «спанем» (уничтожу). Она была в настроении и рассказывала забавные случаи из жизни родственников. Правда, иногда я видел, как на лицо её набегала тень, наверное, она, как и я, вспоминала маму.
Сергей Иванович в своём тосте назвал бабушку патриархом и сказал, что всем соседям очень повезло, что именно в их доме поселилась тётя Люся, и пожелал ей «сто лет». Бабушка ответила, что не хочет дожить до ста и стать чокнутой старухой. Что совсем не боится умереть, тем более «наших там уже больше, чем здесь». Хитро улыбнулась и продолжила: «Только очень хочется, хоть одним глазом посмотреть, что и как у вас всех дальше будет». И закончила своей любимой, удивительной армянской фразой: «Цават танэм, мои дорогие». (Все ваши боли возьму себе).
Я не могу вспомнить, по какому поводу в тот день собралось так много народу. Моя память – не показатель в этом смысле, потому что я – свинья, и никогда не помнил дат даже самых близких мне людей. Когда я жил в Москве, всегда забывал про бабушкин день рождения. Тётка сама звонила мне, а потом звала бабушку.
«Твой любимый внук», - кричала она, а бабушка спрашивала: «Почему я не слышала звонок?».
Не только я не помню - никто не помнит, (я у всех спрашивал), чтобы в этот день было какое-то торжество. У них в доме гости не были редкостью, и стол всегда накрывался, по возможности, щедро, но свой «Наполеон» бабушка пекла нечасто.
Когда перешли к чаю, она велела мне:
- Достань с серванта «Наполеон».
- Ага! - сумничал я. - Зажать хотела.
- Если б хотела зажать – на сервант не поставила.
Бабушка рассказала, как они с дедом и дядей Вано зашли к знакомым. «Хозяйка всё «вах» да «вах»: «Вах, не предупредили, что придёте», «Вах, нечем угостить». Немножко посидели, поговорили, выпили пустой чай. А когда уходили, Вано берёт свою шляпу – он её на высокий шифоньер положил. А шляпа вся в креме: там, на шифоньере тоже был «Наполеон».
«Вах, как я могла забыть!» - запричитала хозяйка».
Перед моим уходом бабушка, как всегда, собрала мне целую торбу еды и на прощанье помахала нам с Вовой рукой из окна.
Мы с ним разговорились и, решив не расставаться, поехали к нему. Я, как ни странно, вспомнил, что обещал позвонить бабушке. Она обрадовалась, что я - у Вовы, и он тоже немного поговорил с ней. Когда он положил трубку, я сказал, что нам с ним очень повезло, что у нас такая бабушка. А он рассказал мне то, чего я не знал: оказывается, его отца и дядю, рано потерявших родителей, воспитывали она с дедом. Потом на кухню пришла Вовина мама и погнала нас спать.
Я долго не мог заснуть и думал о бабушке.
А утром позвонила тётка и сказала, что бабушка ночью умерла. Во сне.