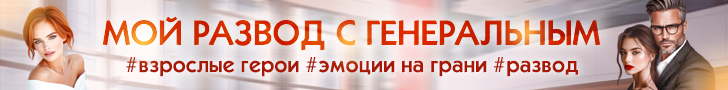Бумажные звёзды
Бумажные звёзды
В солнечный зимний день казахская степь бела ослепительно, до рези в глазах: каждый кристаллик льда горит самостоятельным нестерпимым огнём. Кажется, густая россыпь звёзд, только без космической тьмы, легла на землю сплошным сиянием, под глубоким, как вздох, кобальтовым небом. Ширь, даль заснеженной степи — дух захватывает. Простора там вообще отмерено щедро, до самого горизонта, на все четыре стороны. Но главная в тех краях — пятая сторона. Третье измерение. Вверх. Именно туда раз за разом торят путь. Именно туда указывают тонко очерченные тенями вышки прожекторов, стартовые опоры, фермы обслуживания, кабель-заправочные мачты. И стальная стела ракеты. Правда, увидеть ракету на стартовой площадке Одинцову не довелось.
Космических полётов теперь долго не будет.
Одинцов хмуро покосился в окно автобуса на темнеющее сквозь обледенелое стекло подмосковное утро, особенно невзрачное по сравнению с торжественными степными рассветами: сизыми, алыми, золотыми. Вот и первый рабочий день после командировки, в которую он так просился, хотя бы постоять у подножия незримой лестницы в космос. Хотя бы постоять, раз уж не суждено подняться. С тех пор как в экипажи космических кораблей решили включать учёных, многие ребята из его конструкторского бюро подали заявки, чтобы стать космонавтами. А двое — уже стали. Подавал заявку и Одинцов. Несколько раз. Просто из принципа, да ещё с мальчишеской надеждой, что однажды требования к здоровью кандидатов снизят. Но с его близорукостью и врождённой хромотой затея всё равно была безнадёжной.
Автобус, шумно отдуваясь, вполз на пригорок и с треском раскрыл двери на остановке, чтобы впустить мелкого мужичка, который в такую рань тащил куда-то перевязанную бечёвкой ель в полтора раза его выше, и женщину с ребёнком. Мальчик лет восьми плюхнулся на дерматиновое сиденье напротив Одинцова и принялся расчищать в толстом хрустком инее окошко, похожее на лунку. Или на иллюминатор. За влажным стеклом, в ещё плотном, ещё налитом ночными чернилами сумраке замелькали далёкие окна пятиэтажек.
— Мама, а почему иллюминаторы круглые?
— Почему-почему. По кочану. Ну вот, опять варежки мокрые.
— Потому что круглый иллюминатор распределяет давление, — сказал Одинцов, поправляя на острых коленях большой портфель. — Знаешь, с какой силой сопротивляется атмосфера, когда летит ракета? Воздух так сдавливает её, что она должна быть очень прочной. А углы квадратного окна — слабое место. Там сразу появились бы трещины. И ракету разорвало бы на куски.
— Воздух давит? — не поверил мальчик и помахал рукой: мол, да вот же он, воздух, ничего не весит.
— Ещё как. Ты просто не чувствуешь. А на той скорости, с какой летит ракета, это здорово ощущается.
Сам Одинцов всю жизнь чувствовал отчаянное сопротивление среды, сквозь которую стремился прорваться наверх, подобно тому, как ракета преодолевает сопротивление атмосферы и силу земного притяжения. И всю его жизнь беда соперничала с чудом, счастье и несчастье хватали друг друга за руки прямо над его головой.
Что же на сей раз, с тоской думал он. Где оно, чудо, возможно ли вообще, или лимит исчерпан? Что теперь будет? Что ему делать?
* * *
Для начала: он не должен был появиться на свет. Если бы не молоденькая ветеринарша Галка, вместе с его матерью угнанная на работы в Германию, и вместе с ней же бежавшая из плена под новый 1945-й год, то на просёлочной дороге, на восток от Калининграда, тогда Кёнигсберга, и сам Одинцов погиб бы, не родившись, и мать бы угробил. Там, прямо в снегу, под низко пролетающими истребителями, в их жутком вое, Галка, до войны успевшая напринимать трудно приходивших в мир задом наперёд телят, ягнят и котят, разобралась и с человеческим детёнышем, вот только от её помощи — не слишком ловкой, но действительно бесценной — Одинцов навсегда остался хромым. Поначалу, и довольно долго, он был безымянным: его, крошечного, недоношенного, мать несла по морозу завёрнутым в тряпки, в разрезанном голенище от сапога, снятого с валявшегося на обочине убитого немца. Несла, даже не надеясь, что младенец выживет. Какой ему прок в имени? Однако он выжил и получил имя — Павел. Отчество — Елисеевич. Как у матери, Елисеевны. В совпадении столь редких отчеств определённо крылось что-то значительное — не то беда, не то чудо.
Беда, кстати, не заставила себя ждать. Едва мать вернулась в Москву, как сразу, с младенцем на руках, угодила на допрос в органы. О чём её допрашивали, чем угрожали, в чём заставили признаться, так и осталось тайной. Неприступное, будто стена из красного гранита, молчание поколения, пережившего репрессии. Взрослый Одинцов никакими доводами, никакими хитростями не мог его преодолеть, сколько ни пытался.
Их выслали в далёкое сибирское поселение. Почти всё детство Одинцов провёл в клопиной тесноте деревянного барака, за стенами которого бо́льшую часть года дрекольем резких ветров дыбилась чёрная морозная зима, и совсем недолго гостило стремительное, в зелёном золоте, комариное лето, начинавшееся с того, что бараки, сараи, разбитые дороги, похожие на корыта с грязью, утопали в кудрявом цветении мелкой северной черёмухи. Потом умер Сталин, и мать начала писать письма. Говорила — в Москву, брату. Позже Одинцов узнал, что дядя был видным партийным деятелем. Письма оставались без ответа, уходили в никуда, может, вовсе не доходили до адресата. Под новый 1954-й год Одинцов попросил у матери разрешение самому написать письмо, и нацарапал старым расхлябанным пером: «Здравствуй дядя. Я Паша. Я решил написать тебе, потому что я хочу стать учёным конструктором, а тут негде учится и даже книг очень мало. Я не смогу стать конструктором если останусь здесь. Забери пожалуйста нас с мамой». Надо сказать, чинить и собирать всякие штуки Одинцов научился едва ли не раньше, чем ходить. В свои без малого девять лет, практически из ничего, из разрозненных деталей, которые притаскивали здешние работяги, Одинцов мог собрать хитрый замо́к на шкаф, заводную игрушку малышне или что-то непонятное, но живое, крутящееся и дрыгающееся, стоило только нажать на рычажок сбоку.