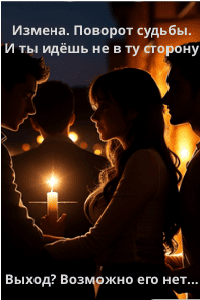Часы
Часы
Любушка пахла вишнями. Сладкими, спелыми. Звенела колокольцами смеха, мягким шорохом платья заключала в объятия и увлекала за собой туда, в летний вечер посреди ноября. Она называла его Валюшка и грела, грела бесконечно: два раза в месяц на даче («Усадьба, Валюшка, такая чудесная этой осенью»), строго по выходным, и по средам – в городской квартире. Он приезжал непременно с букетом цветов и костюме без галстука; расстегивал две верхние пуговички на рубашке, выдыхал устало, слегка прикрыв глаза, и нажимал кнопку звонка.
— Душа моя, не махнуть ли нам в Бордо? Найдем деревушку с вином и булками, французскими, конечно. Вдохнем Франции без Парижа, пригубим винтажное из подвалов. Умирающая аристократия в шато. Мм? – Валентин Сергеевич, озвучив свое заграничное предложение, подхватил кусок пирога и сглотнул, глядя на сочные ягоды, едва сдерживаемые вуалью сладкого теста. – Любушка, я передумал насчет французских булок. Пресно будет. Только вино!
— Аристократия не умирает, Валюшка, она исчезает вместе со своими шато, – Люба тихо подлила в чашки «зимний» чай с облепихой и, слегка тряхнув головой, будто тут же развеселилась. — Забыла рассказать! Представляешь, на днях чуть было не обзавелась собакой. А все Ольга! Ты помнишь, я говорила, у неё есть забавный шпиц…
Он кивал, подперев ладонью щеку, тихо смеялся морщинками в уголках глаз, и слушал, и ждал. Вот они, его колокольцы.
Теплый свет из-под большого абажура, казалось, затапливал кухню и плескался в высоких окнах квартиры. Разливался по улице, обнимал случайные плечи шалью из запахов вишни и «зимнего» чая. Согревал щекотным дыханием шею и вел за собой туда, в летний вечер посреди ноября.
***
Мари («Маша – простецкое имя, дорогой») называла его Тино, считала Бордо глухой деревней, а его дачу – милой избушкой. Она писала «вертикальную прозу» и пахла духами, которые он подарил: преподнес их в очередную пятницу, поймав паузу между рассказом о новом спектакле и старой («но вечной, Тино, вечной») книге. Он выгибал бровь и улыбался уголком рта, откидываясь на спинку стула. Седина в его волосах играла бликами в приглушенном свете ресторана, напоминая, что он старше, чем лучшее вино в их подвале.
Они горячо спорили, обменивались колкостями и, в конце концов, Мари принималась мстить десерту, царапая вилкой фарфор. Она сверкала глазами из-под длинных ресниц и нервно покачивала ногой под столом. Оказалось, что скатерти в дорогих ресторанах очень удобны для их странной прелюдии.
— Тино, это бессмысленно. Даже глупо! Они читают Харари, надеясь понять… Не знаю…Нас самих и жизнь? Но это же попса, Тино! А как же «Диалоги Платона»? Или зачем грызть, если есть пережеванное, да?
— Конечно это глупо. Но еще глупее, девочка моя, пытаться осознать Платона, когда едва перешагнула колыбель. Вместо того, чтобы жить. Платон запрещен младенцам из студенческих клубов, вас всех нужно розгами выгнать на воздух и заставить дышать. И так гонять до первых седин.
— Ты невыносим. Просто невыносим, - Мари вздернула ногой под столом, словно упрямая лань, и мимолетным касанием высекла первую искру. – Я уже не студентка и умею дышать.
— Не сомневаюсь, Мисс Совершенство, не сомневаюсь. Десерту конец? – он хищно, по-орлиному, проследил, как тонкая рука замерла над тарелкой, в коротком выдохе ожидания приоткрылись мягкие губы. – Кажется, у меня где-то были розги…
***
В тот раз, на даче, он больше молчал и слушал. Пяток старых друзей, пара новеньких дам, привычные мысли по кругу.
Подумать только, что уже пятьдесят шесть. Слишком много, слишком быстро.
Золотые годы, надо же. Как красиво сказать о том, что стрелка прошла незримую границу и неумолимо ползет к полуночи. Вечереет, Валентин, вечереет.
Ему всегда представлялось, что где-то стоят его большие часы (в позолоте, конечно, и ореховом корпусе), с «ходиками». Вот маятник мерно качнулся, подталкивая стрелки: идите, идите, не останавливайтесь.
Тик.
Раннее утро подернуто розовой дымкой, Валя прижался носом и лбом к холодному стеклу, и оно запотело. Быстрый рисунок пальцем – квадрат и крестик посредине – маленькое окошко в большом. Три остановки на трамвае и две пешком, чтобы добраться до «хорошей» школы («гимназия выведет тебя в люди, сынок, не все же с оболтусами по дворам таскаться»), где все пять лет он будет «новеньким». А он хотел лето, на речку, и чтобы мама не злилась, ведь он снова порвал штаны. Сентябрь, ему десять.
Тик. Тик.
Галстук непривычно давил. Валентин стоял на крыльце института и щурился, стараясь разглядеть кого-то на залитой солнцем площади. Долговязый, все еще слишком юный, он со всех сторон как-то выглядывал из нового костюма: беззащитной мальчишеской шеей торчал над воротником рубашки; сверкал тонкими запястьями, когда поправлял непослушный вихор; острыми коленями не к месту поддергивал брюки. Он сегодня защитил диплом на «отлично» и впереди целый день. Июнь, ему двадцать два.
Тик-Тик-Тик.
Он стоял у мангала, переворачивал ребрышки на решетке и делал вид, что слушает новую знакомую («перспективная дама, Валентос, все, как ты любишь: молодая, хваткая и свободная»). Марина? Карина? Пожалуй, нужно уточнить у Сереги, а пока будет «дорогая» – никогда не подводило. Чертов маятник, казалось, разогнался в голове не на шутку и бил по ушам, оглушая.
— Мясо, как всегда, Валентос, как всегда непередаваемо!
— Но ты дальше все же передай, а?
— Тебе лишь бы пожрать, Серый.
— Не лишь бы. Еще покурить и потрахаться – я многогранная личность.
— Как ебливый треугольник.
— Мальчики, вы здесь не одни.
— Девочки, у нас тут равноправие.
— Валентос у нас феминист, Кариночка, его дача – территория, где есть равноправие, равнолевие и по центру тоже никто не в обиде.
— Ага, заслуженный феминист. Внедряется и борется за права всех женщин в округе.
— А что такого? Человек свободный. Хочет и внедряется. Это нам нельзя в Бельдяжки.
#23213 в Проза
#11835 в Современная проза
#76113 в Любовные романы
#15812 в Короткий любовный роман
Отредактировано: 17.02.2021