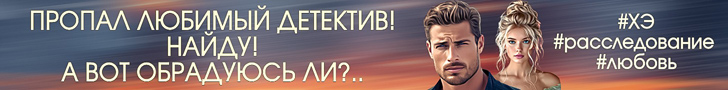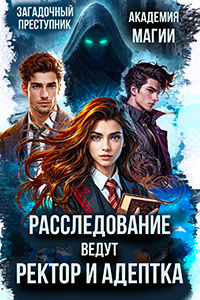Чёрное перо
Чёрное перо
–Твои дела совсем плохи? – Гастон всегда появлялся в самые тяжёлые минуты, причём не в те, когда требуется утешение, а в те самые, когда ты низведён в самую грязь и ввергнут в глубины отчаяния, и не нуждаешься в обществе.
Ты хочешь быть в мрачном одиночестве, а тут из ниоткуда берётся Гастон, садится рядом, словно вы и не прощались, и будто бы он всегда был рядом.
Впрочем, у Клода было ощущение, что так оно и есть. С Гастоном они виделись часто, что говорило о том, что Клод заядлый обитатель тяжёлых минут, грязи и глубин отчаяния. Иной раз Клоду казалось даже, что именно из-за Гастона его дела никак не наладятся, каждая встреча с ним как новое падение!
Но вслух этого Клод никогда не произносил – ещё бы, если бы не Гастон, Клод давно помер бы с голоду! Он всего лишь уличный поэт, с монетами не густо, с самой жизнью не просто, но кого уже укорить?
–Совсем, – признал Клод мрачно. – Моя последняя поэма разошлась по столице, но ненадолго. Оказывается, нельзя говорить о рассудке принца крови.
Клод не удержался, усмехнулся. Сам он дурного в своих стихах не видел. Он считал себя проводником новостей и мыслей, и в своих стихах говорил лишь то, о чём было известно если не всем, то большинству. Когда за ним впервые погналась городская стража, он был молод и счастлив. Он казался себе бунтовщиком, поднявшимся над властью самого короля, силой, напрямую заговорившей с народом.
С тех пор прошли годы. Он был всё ещё молод, но ужасная тоска съедала его душу. Бунтовщиком оказалось быть весьма трудно. Голод, облавы, бессонница, вечная жажда толпы в новых, всё более смелых строках стали ему рутиной. Запал, прежде гревший его сердце, затихал, сносимый усталостью.
Но мог ли он то изменить? Уже не мог. Он стал врагом короны и корона не простила бы ему его слов. А сам? Куда он мог податься? В какую канаву забиться и на что существовать? Он не знал, и усталость души, измотанность чувств, в которой никто, кроме него и не был виноват, вели его к дожитию.
Он был молод годами, лихо вскакивал на грязные, видавшие всякую дрянь, кабацкие столы, громко и звонко читал очередной памфлет, и ловко бежал от стражи, перепрыгивая через лавки и наваленные ящики, но…
Но это становилось обязательной игрой и хоть голос его и годы были ещё в молодости, глаза уже старели и выцветали. Толпа хохотала над его словами, злословила над удачными и едкими слухами, обличёнными в рифмы, но знала ли эта толпа того, кто её так веселил?
Лет пять назад, начиная свою карьеру, ведущую к пропасти, Клод готов был орать в лицо всем и каждому, что толпа знает его, что внимает ему и что делит с ним одну кровь! Но сейчас, когда усталость брала своё, Клод понимал отчётливо: его не будет, будет другой, и толпа не вспомнит. Как он потеснил из уличных поэтов прежде поэта-бродяжку Рено Вашона, так и вскоре кто-то потеснит его.
И падёт Клод в ничто. И не вспомнят его. Мало ли их, молодых, весёлых, ловких, озорных побродяжек, не умеющих жить иначе, чем простой рифмой, в которую заплетён слух? Мало ли их, жадных до славы, юных, голодных?..
–Написал бы ты что-нибудь хорошее, – укорил его Гастон.
Клод едва заметно улыбнулся: он пробовал это. он пробовал писать и то самое «хорошее», вылощенное, выбранное с особенной тщательностью, не имеющее брани и не имеющее ничего дурного.
И что же?
Толпа требовала «плохого» – слухов о любовных похождениях, болезнях знати и растратах казны, чудачествах богатых и могучих, а его работа была принята весьма прохладно.
Не стать из уличного поэта городским. Не заточиться в клетку, если прежде ты клетку эту рвал…
Так себя Клод убедил, так себе решил и жил как прежде.
–Написал, – ответил Клод, не уходя в объяснения, – о принце крови. Оказалось – нельзя.
–А ты бы о другом!
–О чём? – Клод указал на снующую туда-сюда толпу. Час рыночный, бойкий. Торговый. Все торопятся, бегут закупиться и слово перехватить. У всех есть дело, все идут к кому-то и зачем-то, только Клод никуда не идёт, пока есть тихая минута, сидит у набережной, от воды гнилостно тянет, но тут тише.
Но Гастон пришёл. Знает, видимо, что Клод в отчаянии.
–О чём? – повторил Клод, – им же неинтересно ничего, кроме трат графов и забав принцев.
–А ты их всех спросил? – Гастон был серьёзен. Как и всегда.
Клод махнул рукой – что Гастон понимает? Сын не богатых, но и не бедных родителей, он имел больше простора для жизни. Да и усидчивости в нём было больше, и послушания, и смирения. С детства так было! жили они рядом, рядом мечтали, а жизнь на разных концах города построили. Клод – бродяжка, поэт, а Гастон – служитель при Судействе, третий ранг занимает, выступает защитником для лавочников и мелких родов, что не могут себе личного защитника позволить. Он им от короны и приходит, интересы представлять, хотя знает, что не в благе тут дело, а в том, что Судейству тратить время на разбор малограмотных речей и бумаг себе дороже, проще уж держать тех, кто интересы будет представлять, кто за всех лавочников обратившихся скажет, да за неграмотных распишется.
–Ладно, – Гастон не дождался ответа. Они всегда говорили на разных языках, и оба, таясь друг от друга, друг другу завидовали. Гастону иногда хотелось такой же свободы, как у Клода, такого же полёта, такого же легкого пера! А Клоду хотелось смысла. Какого-нибудь смысла. Хоть в служении, хоть в добром деле.
Но ни один бы своего пути на путь другого бы не променял – иная эта была зависть, находящая, тоскливая.
–Ладно, ты голоден? – Гастон знал, что однажды его друг плохо закончит. Сколько бы раз он не натыкался на него на улицах, Клод всегда был голоден, а иной раз и бит.
Хотелось ответить Клоду что нет, но Гастон всегда появлялся в минуту отчаяния, в самую поганую минуту. Клод не ел уже второй день – монеты, вырученные за последнюю разошедшуюся по городу поэму, не перекрывали его долгов. Чего уж говорит про завтрашний день? Усилиями же короны – для городских жителей дать приют Клоду или как-то иначе приветить его – риск. Привечают, конечно, и приют дают, но только тогда, когда Клод из себя что-то представляет.
Отредактировано: 07.12.2023