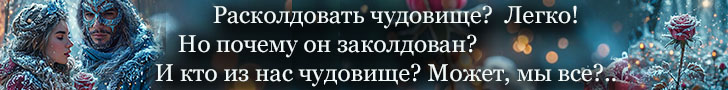Чороса
Чороса
На «Чоросу» меня вдохновили две женщины, которых я никогда не видел. Одна жила в XV веке и была княжной, о ней я узнал, когда ездил в Монголию и по давней своей привычке ходил по музеям, расспрашивал старожилов о древних преданиях и легендах. Другая – наша современница, живет она в Украине. Что общего между ними? А вот что. Находясь в Монголии, я также услышал о «четырех красавицах». Древние монголы верили, что синее небо посылает женщинам особые дары. В зависимости от вида полученного дара, женщина стояла на одной из четырех ступеней красоты.
Первую ступень занимали те, кому небо даровало добродетельную чистоту. Эти женщины были эталоном во всем и одним лишь присутствием могли излечивать от болезней. Вторую ступень занимали те, кому даровано солнце. Они не были писаными красавицами, но глаза их горели, а от лица исходил свет. Они были умны, очаровательны и «когда такая женщина заходила в юрту, все мужчины смотрели только на нее». На третьей ступени находились награжденные телесной красотой, но лишенные солнца, а на четвертой – женщины, обделенные всеми тремя дарами, но умевшие себя украшать.
В рассказах, упоминавших о монгольской княжне, особо подчеркивалось, что с лица ее не сходила солнечная улыбка, глаза сияли божественным огнем, и всем было тепло рядом с ней.
Женщина, которой я посвятил «Чоросу», тоже обладает этими качествами. Нет, она не монголка по национальности, но в ней столько солнца, что оно согревает не только ее большую семью, но и многих, многих вокруг. Даже тех, кто знаком с ней только виртуально или через ее стихи, в которых столько же света, сколько в ее сердце.
Чороса
(Ирине Кузнецовой-Груздевой)
Не успел тайджи[1] Бату отдохнуть, вернувшись после удачного похода, как ему передали, что его ждет вдова хана. Он не стал медлить. Слуги откинули перед ним полог белой юрты, и с войлочных ковров навстречу юноше поднялась сама Мадхай-хатун. Кто бы поверил, что этой красивой, улыбающейся женщине уже исполнилось сорок? Волосы, заплетенные в две косы, легкость движений и стройность стана придавали хатун девичий вид. Только в уголках глаз пролегли светлые лучики-морщинки, совсем незаметные при светильниках.
- С возвращением! – приветствовала она Бату и, по-обыкновению, сразу перешла к делу. - Ты вырос, тайджи. Возмужал. Если бы твои отец и мать дожили до этого дня, они гордились бы таким сыном. Не думаешь, что пора занять место, принадлежащее тебе по рождению? В следующем месяце, если будет угодно синему небу, мы устроим церемонию передачи власти. Но будущему хану надо подумать о жене, - она сделала знак служанке, и та впустила в юрту дочерей Мадхай, наряженных, как на праздник. Одной было шестнадцать лет, другой - пятнадцать. Они одинаково поклонились и сели на пятки. Девушки не поднимали глаз, но ресницы их нетерпеливо трепетали. Младшая не выдержала и прикрылась рукавом, отчаянно горя щеками. Прически ханш были щедро украшены искусственными прядями из конского волоса, гребнями с бирюзой и лазуритом. Солнечный луч, проникнув под кошму,[2] рассыпался на тысячу бликов, отразившись от тяжелых золотых ожерелий, украшавших девичьи шеи.
Бату внимательно рассматривал девушек. Обе пошли в отца – покойного хана Мандуула, ни единой черточки матери не было в их облике.
- Возьми в жены одну из моих дочерей, - продолжала тем временем Мадхай. – Они хорошего рода, обучены всем женским премудростям, скромны и добродетельны. Старшая нежнее лицом, но младшая лучше играет на чанзе.[3] Какую бы ты не выбрал, она станет прекрасной подругой.
- Подругой… - задумчиво повторил Бату и добавил: – Уверен, что ты хорошо воспитала дочерей, хатун, и любой будет рад такой жене. Но я не могу сделать выбор сразу. Надо помолиться Тенгри,[4] чтобы он направил на верный путь. Завтра я объявлю о своем решении.
В эту ночь Бату не спалось. Он размышлял о том, как причудливы повороты судьбы. Его отец – Баян-Мункэ - долгое время был соправителем хана Мандуула, умершего пятнадцать лет назад, и происходил из Борджигинов[5] – прямых потомков Чингис-хана. Сто лет назад род его правил в Китае, пока не был изгнан народным восстанием.
Бату исполнилось четыре года, когда отца, ложно обвиненного в измене, казнили по приказу хана. Все богатства соправителя, отару, табун и молодую жену забрал себе один из князей, тот самый, который особенно усердствовал в раскрытии мнимого заговора. Чтобы спасти Бату, мать отдала его в приемную семью, строго-настрого наказав хранить тайну рождения ребенка.
Вспомнился Бату и последующий год, проведенный в семье бедного пастуха – год серый, безрадостный. Его били всякий раз, когда он называл себя сыном хана, а летом отправили пасти овец и собирать кизяк. У пастуха было пятеро детей. Младшие плакали ночи напролет, а старшие норовили забрать у приемыша причитавшуюся ему ежедневную половину лепешки, награждая подзатыльниками, если он пытался пожаловаться. Спать приходилось на земляном полу, не покрытом войлоком и кишевшем насекомыми. В щели юрты немилосердно дуло, и вскоре у него по всему телу пошли незаживающие нарывы. А потом приехал человек на белом коне и забрал его с собой, не смотря на вопли приемной семьи. Они ехали в степи несколько дней почти без остановок, и Бату думал, что умрет от усталости. Когда его привезли в большой улус, в центре которого стояла юрта, покрытая белой кошмой, он едва смог приоткрыть глаза. Как в тумане виделись ему воины с обветренными лицами. Их было много, и они смотрели на него, как на чудо, явленное небесами. Потом он увидел молочно-белую кобылицу, мчащуюся во весь опор, и всадницу, косы которой стелились по ветру. Он до сих пор отчетливо помнил, какой впервые предстала перед ним Мадхай-хатун. Стройная, сильная, в самом расцвете 25 лет, она улыбалась, и лицо ее словно излучало свет. Она носила полинявший от солнца и ветра халат, простые черные шаровары и единственное украшение - мужской наборный пояс с серебряными бляхами. Хатун соскочила с лошади и направилась к Бату, постукивая плеткой по сапожкам-гутулам, а воины почтительно расступались перед ней.