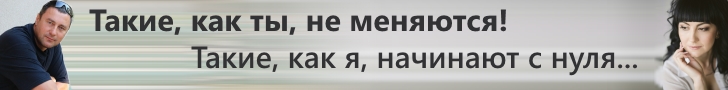Циркачи
Циркачи
Слова прокурора и образ подсудимого никак не связывались вместе.
– В период времени с двадцать шестого июня по шестнадцатое сентября этого года подсудимый Алексей Линьков пять раз применил силу в отношении супруги во время семейных скандалов…
Судья вполуха слушал, время от времени поглядывал на Линькова и в очередной раз перелистывал его дело, пытаясь схватить нечто неуловимое, что не давало покоя.
Умышленное причинение телесных повреждений, штраф и множество суток, проведенных на милицейских нарах. Усугубляла ситуацию уголовная ответственность, к которой Линькова привлекли в апреле этого же года. Тогда суд вел коллега, который приговорил подсудимого к полутора годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.
Выходит, не успел Алексей Сергеевич отбыть наказание, как кулаки снова зачесались. И во всех случаях фигурирует спиртное. «Скольких людей водка привела на скамью подсудимых», – подумал судья. Однако эта мысль не помогла представить молодого мужчину напивающимся до свинского состояния.
За почти три месяца, что Линьков провел под стражей, его лицо осунулось, плечи ссутулились. Но остались такими же интеллигентными, хотя и более напряжёнными, жесты, мягкими – движения. Миндалевидные зеленые глаза смотрели ясно, высокий лоб с небольшими залысинами венчал лицо в форме трапеции. К тому же, это лицо кого-то напоминало, с кем не связывался негатив. Кого? Чей образ суетился на задворках памяти?
Судья провел ладонью по лбу и щекам, будто сбрасывая остатки раздумий, вспомнил известное «в тихом болоте черти водятся», привычно загладил назад прядь волос. Затем подпер рукой широкий крепкий подбородок и уставился на прокурора.
– Выводов для себя подсудимый не сделал и не раскаялся, – вещал менторским голосом официальный представитель обвинения.
Судья поморщился: вот кто может влезть человеку в душу и понять – «сделал» ли выводы, «раскаялся – не раскаялся». Дежурные фразы, заполонившие многотомные дела, часто мешали вникать в суть совершенного правонарушителями и преступниками. Приходилось продираться, как сквозь дебри, к тому важному, существенному, вескому, что помогает принять единственно верное решение.
– …За систематическое избиение жены, двадцативосьмилетней Линьковой Елены Михайловны, согласно части второй, статьи сто пятьдесят четвертой Уголовного кодекса Республики Беларусь «Истязание», прошу назначить подсудимому Линькову наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима, – закончил официальную речь прокурор и уже обычным тоном заключил: – У меня все, Тимофей Иванович.
Судья отметил, как прокурор победоносно взглянул на подсудимого, оправил китель, потуже затянул ремень с пряжкой. Его взгляд переметнулся на судью, и маленькие глазки быстро-быстро замигали, словно смачивая роговицу, которая подсохла, пока они вглядывались в бумагу. «Этому здоровому борову не мешало бы снять с десяток лишних килограммов. Эк, откормила молодая жена», – подумал судья.
Пока он молча, задумчиво вглядывался в прокурора, тот решил, что от него ждут еще каких-то слов. И добавил уже разговорно-просто, немного вкрадчиво:
– Во времена наших предков, возможно, и правильным было избивать жену. Но не сегодня. Линьков не имел никакого законного права причинять телесные повреждения другому человеку.
Прокурор сел.
Судья обратился к Линькову:
– Подсудимый, встаньте!
Тот внешне спокойно повиновался приказу, волнение выдала лишь подрагивающая ладонь, которой пригладил редеющие волосы ото лба до макушки головы. Этот жест снова показался судье знакомым, понятным. «Дежавю какое-то», – вздохнул он и приступил к процедуре опроса.
Показания скандалиста-мужа и пострадавшей-жены сильно расходились.
– Я не бил ее… Признаю, ревновал. Домой приходила поздно. На работу звоню – давно ушла. Спрашиваю, где была, – только усмехается… Но я не бил… я не мог… Ну, умышленно не бил, – рассказывал Линьков. Голос срывался до хрипа, скупые движения подчеркивали растерянность, замешательство и даже, казалось, отчаяние.
– Да разве ты помнишь! Зенки свои зальёшь… – вскочила Линькова.
Пришлось приструнить истицу. Та кротко взглянула на прокурора, потом на судью и пробормотала:
– Простите…
Линьков еще раз провел ладонью по волосам, минуту помолчал, будто собираясь с духом.
– Один раз, помню, было такое: оттолкнул Елену от себя. Не знаю, может, и упала. Я был трезвый. Она тогда кричала сильно, подпрыгивала чего-то. А я не хотел, чтобы скандал слышали соседи… Стыдно… перед людьми стыдно… Да, потом я выпил…. Водка всегда стояла дома, не выводилась… – послушно отвечал на вопросы подсудимый. – Да, я покупал, Елена тоже покупала… Но я не бил ее, уважаемый суд! Я не знаю, откуда взялся тот фингал, синяки… царапины… я ничего не понимаю…
Почему-то хотелось верить этому человеку. Но он – судья, и давно запретил себе прислушиваться к этим «верю-неверю». Это в Бога можно верить. А здесь, в суде, такого наглядишься за тридцать лет служения Фемиде, что сам себе перестаешь верить.
«Папочка, я же такая белая и пушистая,» – вспомнил судья вкрадчивые слова дочери, какими она обычно предваряла просьбы. Он улыбнулся краем губ и сразу отогнал воспоминание: старался разделять личное, тем более, семью, и служебные дела.
Судья знал: его подопечные, если надо, тоже становятся такими «белыми и пушистыми». Только верить им – себя не уважать.
– Циркач! Шкуру свою спасаешь?! – взвизгнула истица, подтверждая его мысли.