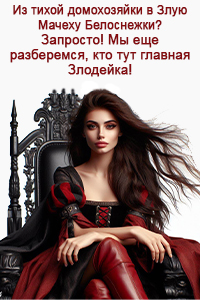Давным-давно
Давным-давно
Лес возвышался собором – она видела такой в городе, когда мама взяла ее на ярмарку. Прямые черные стволы втыкались в небо, доставая, наверное, до самих ангелов. Интересно, щекотно ли им ходить по пушистым верхушкам?
— Гретель, не отставай, — сказала мама и дернула ее за косицу. — Возьми брата за руку. И не смотри по сторонам.
Ганс фыркнул, но ухватил ее ладошку. Теперь идти приходилось быстрее, подстраиваясь под широкий шаг брата, и она не могла больше разглядывать небо. Зато дорога тоже была интересной. На утоптанной земле то тут, то там блестели камешки – она видела такие в яме за оврагом, откуда дядька Уве брал глину. А по краям, в спутанной завядшей траве, встречались порой клочки ткани. Хорошей, дорогой. Цветной, дома такую не сделаешь. Вот об отрезе цвета полуночного неба она и просила маму. Только она все равно его не купила. А мельничиха своей дочке купила, говорила, что ребенка надо баловать хоть иногда, не все ж им работать, надо же иногда и подышать свободой дать, а то чуток вырастут – и замуж, а там опять все по кругу.
От мыслей о том, куда подевалась дочка мельничихи, ее отвлек брат. Он нагнулся и шепнул в ухо: «Не спеши». Хорошо, а то мама велела башмаки оставить дома, потому ноги уже устали и болели от долгой прогулки в сумерках.
— Ты знаешь, куда мы идём? — прошептал брат. Родители вырвались вперед, но они несли факел, так что потерять их в хороводе сосен было невозможно. — Гретель, ты понимаешь, что мы тут делаем?
Что ж она, дурочка какая? Как Рябуха безголосая, что только мычит и голой бегает по улице? Все она понимает: они идут в лес, потому что дома есть нечего, а там, посреди густой чащи, у отца есть схрон. Там и зерно, и окорока, и колбасы, и даже кошель с монетами. Ну ты чего, Ганс, сам не помнишь?
— Дура ты, хуже Рябухи, — сказал брат, как сплюнул. Его ноги будто путались – так медленно он шел. — На смерть мы с тобой идем, на верную погибель. И не мы первые, не мы последние.
Да быть того не может! Мама с отцом врать не будут, они самые честные, и хорошие, и храбрые, и любят их.
— Мельничиха своих тоже любила, а вон, видишь, всех и повывела.
А и то правда: ее дочки-погодки уже как пару дней на улицу носа не казали. Хворали. И сын соседки тоже.
— От горшка два вершка, а все ж соображаешь. — Обидная похвала, но от Ганса и такая в радость. Чаще всего он щиплется, как гусь, а не говорит с нею.
За разговором они отстали от родителей еще больше: теперь и спин не виднелось, лишь мелькал огонечек впереди, в перекрестье черных веток-рук. Тропинка тоже пропала, и они шли по бурелому, оставшемуся с весны. Ветры да дожди много бед принесли. И урожай тоже... из-за непогоды.
— Я тут подумал... — Ганс выпрямился, развел плечи в стороны и стал похож на отца. Только моложе гораздо и красивее. Это не она так думала, так девочки старшие шептали. — А давай сбежим? В город. Я в подмастерья к шорнику пойду. Ну или к пекарю. А ты – в служанки. К даме богатой, они любят, когда им прислуживают такие милые крошки. Заживем... Сытно и без оглядки.
Сытно – это хорошо. А то последний раз они наелись вдоволь, когда отец принес кости от мельничихи и мать наварила пустой похлебки. Только вот как они в город доберутся без денег и башмаков? Она босая идти не хочет. Да и в городе тоже не дураки живут: на постой без монет их никто не пустит, не накормит.
— А мы дома возьмем! — Ганс уже пылал новой мыслью. Дома ему не сиделось, все смотрел в город – отрезанный ломоть, как говорила мама. В солдаты продам, грозился отец. — Я видел, где наши кошель прячут.
Так, может, не надо никуда бежать, раз дома деньги есть? Вот сейчас они дойдут до схрона, возьмут еды и вернутся, и заживут по-прежнему.
— Дура ты все ж. Нет никакого схрона, — вздохнул брат как-то так, что она сразу ему поверила. — Нет ничего, кроме леса. Заведут нас поглубже в чащу, убьют да и съедят. Так и мельничиха сделала, и дядька Уве, и соседка. Наши еще долго держались, все откладывали.
Да зачем? Зачем? У них же деньги есть!
— А я знаю? Не знаю я, Гретель.
А надежда не отпускала – тянула за руку вперед, туда, где в упавшей темноте светился факел и были мама с отцом. Ведь не могут же они так просто от них... с ними... не могут!
— Могут. Так что, Гретель, решай: бежишь со мной или идешь с ними? Я тут назад поворачиваю. Дорогу знаю – камушки бросал из карманов. Дойду уж как-нибудь обратно, а там и до города доберусь.
У нее текли слезы по щекам, щекотались, горячие, только вот легче не становились. Она брела за братом назад, цеплялась за корни, проваливалась в норы, падала и вставала. Наконец он не выдержал – подхватил ее легкое тельце, взвалил на спину и понес.
Она и подремать успела, уткнувшись носом в грязную потную рубаху. От брата пахло домом – тем неслышным запахом, что имеет каждая хижина и землянка, в которой живут люди. Он, этот запах, особенный: он как путеводный маяк для родных, как рогатина для медведя, как сладкий мед для нечисти.
— Гретель, ты не спишь? Держись крепче, а то упадешь.
Нет-нет, не спит. А то, что руки разжались, так она просто устала.
Лес остался за спинами, вздохнул тяжко на прощанье. А внизу, в равнине, редкими огнями засияла родная деревня. Совсем рядом – стоит только сбежать по пологому склону, раскинув руки, и пролететь по улице вниз, вниз, вниз до самого дома. Она бы так и сделала, если бы не израненные ноги.
— Слезай давай, — буркнул брат, когда они обошли дом сзади, — всю спину отсидела. Мелкая такая, а тяжелая.
И ничего она не тяжелая, просто он слабый. Вот папа ее бы нести мог целый день и ночь и ничуть не устал бы.
— Вот пусть он тебя в следующий раз и тащит. Прямиком в очаг.
На такое ей ответить было нечего, потому она отвернулась и пошла под стеной ко входу.
Дверь скрипнула, тяжело поддалась – будто месяц запертой стояла, и распахнулась. В теплом сумраке их встречало пламя печи. На печи булькал котелок, пахло смолистым дымком и ячменной кашей. Стол покрывала бабушкина скатерть, которую доставали только в дни крестин, свадеб и поминок, на ней лежали приборы. Кажется, серебряные. Она таких раньше и не видела никогда, только слышала. В крохотной блестящей лодочке плыла крупная белая соль. На пустых тарелках играли отблески огня.
Это откуда такое богатство? Что это – мираж или сон? Может, они до сих пор в лесу бродят. Или упали без сил под деревом, пропитались земляным холодом и рассудок потеряли в лихорадке.
— Нет, детушки, не спите вы. — Из теней выступила женщина. Высокая, головой под потолок, крепкая. Выше и матери, и отца. На лбу у нее сажей руна начертана, а на щеках – шрамы старые, розовые. Волосы чернее ночи, а глаза прозрачные – только на донышке кто-то словно скалится насмешливо. Ведьма.
И как это она углядела все? Только вот углядела и догадалась сразу, кто встречает их в опустевшем доме. Схватила брата за руку, спряталась за него.
— Ты кто такая? — Ганс ступил вперед. Потом еще и еще, пока почти не уперся ведьме в грудь. — Ты что забыла в чужом доме?
— Садитесь, детушки, за стол и отведайте моих угощений. Никакого зла от меня вам не будет, — сказала и рукой повела. Ганс как околдованный на стол глянул да и пошел к лавке.
Не садись, Ганс! Не смотри на нее, не слушай! Вставай, пойдем отсюда. Не надо нам ни угощений, ни денег, ничего не надо.
— Куда же, детушки, ночью пойдете? Вас же батюшка искать будет, матушка плакать станет. Присядьте, поешьте, а утром и решите.
— Так и сделаем, — кивнул Ганс. Теперь и в его глазах плясал бесенок-насмешник. — Сядь, Гретель, не торчи посреди дома.
Села. Только вот не ела ничего: ни похлебки ароматной, мясной, с кружочками жира да цветными пятнышками зелени; ни каши рассыпчатой, с кусочком золотого масла, тающего в крупе: ни хлеба ноздреватого, пшеничного, белого. А Ганс уплетал за обе щеки и слушал ведьму. Голос ее лился рекой – и от переливов, перекатов речных хотелось спать. Лечь прямо здесь, уложить голову на бабушкину скатерть, на миг смежить веки, оставив щелочку узкую, и слушать голос...
И не видеть, как отяжелевший сонный Ганс сползает вниз на лавку, как изо рта у него лезет белая пена, а он бьется – рыба в сетях – и отталкивает слабыми руками острый нож. И не слышать, как вернувшиеся родители решают, на сколько хватит мяса, и что остатки можно продать в город, и как хорошо, что теперь у них в лесу живет настоящая ведьма. И не чувствовать, как холодит спину пол, как знакомые руки стаскивают рубашку – еще крепкая же ткань, можно продать, – и как горячий нож пробует кожу.
Как и нет этого ничего. Будто это – сон. А утром они, Ганс и Гретель, встанут и посмеются над глупым сном. Только сейчас она поспит еще, потому что сил совсем нет, даже глаза не открыть, не сглотнуть кровь, не...
Отредактировано: 16.06.2019