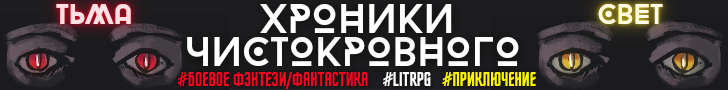Эдит Дюпон
Эдит Дюпон
Я сидел на жёсткой скамье у пристани, закинув ногу на ногу и дышал морским утренним воздухом, какой бывает только здесь, на этом захудалом курорте. По крайней мере, так сказал мой доктор - мистер Дилейни. Мне-то уже Всё Равно с большой буквы - после смерти жены, а после и дочери, мне уже давно на всё всё равно. Но что самое главное, после того как умерла Марселлет у меня ничего не осталось, кроме дочери Жаклин и приличий, которым покойная жена научила меня. А после смерти Жаклин - у меня остались только приличия и та строгость манер, которая передалась мне от дочери, у которой такие манеры были переданы от матери с самого рождения. Они обе многому меня научили и это всё, что у меня осталось.
Ничего вещественного: ни фотокарточки, ни брелока, ни кулона, ни веера и никаких других безделушек мне от них не досталось. Даже не мог бы я точно сказать куда всё это делось, ведь мы были богаты. Вращались в роскошных кругах Швейцарии, часто ездили в Веве на лето, в Рим - на зиму и даже бывали в Лондоне и в Париже. Не смотря на то, что моя жена, по бабушке француженка, была помешана на всём французском и обожала лягушек и бардо, во Франции ей не понравилось. Она приходила в ужаснейший ужас, когда картавая речь обитателей Парижа резала её чуткий слух пианистки.
Так она выражалась, но пианисткой она, конечно, не была. Максимум, что она делала - музицировала, когда у неё не болела печень (а она у неё болела практически всегда) и то, признаться, делала это дурно. Её тонкие, но от этого не особо красивые, костлявые руки, словно палки, не сгибаясь стучали по клавишам музыкального инструмента, издавая сами по себе неплохие и несложные старые мелодии, иногда смешные, иногда ироничные, особенно плохо. Я любил наблюдать за её лицом, когда она играла - создавалось ощущение, что это лицо её играло, в зависимости от мелодии, меняя своё выражение. Надо признаться, у неё был талант, большой талант, но болезнь и, возможно, от части я, не дали ей его реализовать.
Наша дочь Жаклин тоже была названа французским именем, по настоянию жены. Но я терпеть не могу всё французское и отчаянно хотел сына, так что это чудесное имя Жаклин превратилось впоследствии в тривиальное Джекки. Марселлет злилась жутко, что я так называю нашу дочь, исправляла меня, а потом и сама стала называть дочку Джекки. Надо сказать, что они были очень похожи - пышные кроны их до жути чёрных волос одинаково обрамляли их бледные, словно розоватый мел, лица и заставляли их головы слегка откинуться назад, словно под тяжестью их слегка вьющихся волос.
Большие глаза - чёрные и, казалось, здесь не могло быть иначе. Длинные носы - но, признаться, это их нисколько не портило, - они были ровны и аристократично изящны. Пожалуй, их носы составляли добрую часть их аристократичной внешности, остальную - их бледность, контрастирующая с тёмными глазами и волосами, тонкие лебединые шеи, сквозь которые просвечивали жилки, и руки, которые могли бы быть образцом изящности, умей они держать хоть что-нибудь. Если бы Марселлет умела шить, а Жаклин рисовать, их руки были бы куда пластичнее, но они не делали ровным счётом ничего и слава Богу - казалось, что если они прикоснуться к одной из алых роз, что росли у нас в саду, то иголки роз просто убьют их! Я так за них боялся. Всегда боялся и в один ужасный день мой страх с туманных снов пришел в реальность - они умерли. Проклятый тиф унёс сначала жизнь жены, а потом и дочери.
Я, завзятый выпивала, никогда не имел виды на высшее общество, но моя жена, на которой мне посчастливилось жениться, имела настолько шикарные манеры, что очень скоро мы попали в среднее общество, а после - и в высшее. Эти манеры, к счастью передались и мне. Я стал чопорен, забыл безрассудство, грубость, наглость и перестал делать и говорить то, что думал. Я был счастлив. Или мне так казалось...
Сейчас, на берегу моря, это не казалось мне важным. Я смотрел на пенящиеся тёмно-синие волны, с громким хлёстом ударяющиеся о камни, которыми был устлан весь берег, а потом - отчаливающими обратно. Жена говорила мне, что я мог бы быть писателем - она читала мой дневник, пока я был в конторе и сказала, что у меня талант. Правда в дневнике я писал свои наблюдения за горохом, который рос на соседнем участке от роз. Не знаю чего живописного она там нашла.
А тем временем небо накрыли тучи, заботливо, правда, не очень вовремя - я хотел загорать. Хотя, конечно, по мне это не скажешь - я был одет в льняной костюм-тройку и моя лысеющая, но ещё не седая голова была покрыта панамой в тон костюма. На ногах виднелись не очень-то в такт подобранные сероватые носки и начищенные твёрдые туфли. Я сидел, боясь повернуться, потому что спина моя уже даже привыкла к боли, вызванной твердющей деревянной скамейкой, так что даже её не чувствовала - это предвестие надвигающейся боли. Газету у меня в руках трепал шальной ветер, но я крепко её держал - словно она была моим единственным спасением. Но я не понимал что в ней написано - то ли потому, что она на немецком, то ли потому, что там о политике. Разумеется, я знал немецкий и отменно рассуждал об анархии и иерархиях, но со смертью Марселлет я, кажется, утратил все свои способности, коли они у меня были. И я бы продолжал так же сидеть, не шевелясь, если бы моё боковое зрение не увидело гуляющих вдали от меня девушку и мужчину с непокрытой, седеющей головой, правда, с гораздо более густыми волосами, чем у меня.
От чего-то я заинтересовался ими и даже умудрился без особых усилий пересесть немного набок, даже того не заметив, чтобы их рассмотреть. Мужчина нёс свою жёсткую шляпу в руках, девушка была повёрнута ко мне спиной - я мог видеть развивающееся на ней шифоновое лёгкое белое платье по моде, завязанное у неё на тонкой талии в пышный бант. Она придерживала свою соломенную шляпу на голове, а на шляпе сзади у неё был такой же шифоновый бант, как на талии, с длинными концами, развивающимися, кажется, на полтора метра позади неё.
#101564 в Любовные романы
#21068 в Короткий любовный роман
#2660 в Исторический любовный роман
Отредактировано: 19.05.2018